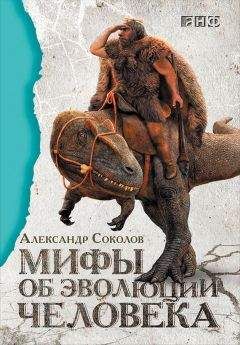Рудольф Рэфф - Эмбрионы, гены и эволюция
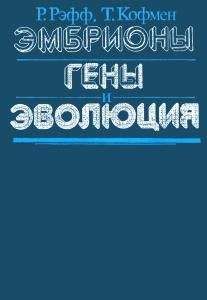
Помощь проекту
Эмбрионы, гены и эволюция читать книгу онлайн
Однако закон параллелизма, так же как и лестница живых существ, не содержал в себе ничего эволюционного. С равным успехом можно было бы рассматривать его как отражение божественного плана творения. Так считал Агассиц (Agassiz), ставший впоследствии одним из злейших противников Дарвина. Агассиц, выдвинувший гипотезу о ледниковом периоде и крупнейший в мире авторитет по ископаемым рыбам, распространил закон параллелизма на палеонтологические данные. К 1849 г. накопилось уже достаточное количество этих данных, чтобы Агассиц мог продемонстрировать, так сказать, тройной параллелизм, т.е. что данный высший организм проходит в своем развитии не только через стадии, сходные с взрослыми особями ряда ныне живущих низших родственных ему форм, но также через стадии, сходные с последовательным рядом ископаемых представителей его класса, обнаруженных в палеонтологической летописи. Конечно, Агассиц, в отличие от трансценденталистов, ясно понимал, что система классификации, созданная Кювье (Cuvier), перечеркнула единую лестницу живых существ. В системе Кювье (1812) животные делятся по типу строения на четыре глубоко различающихся класса: позвоночные, моллюски, членистые и радиально-симметричные; рекапитуляция и параллелизм возможны только в пределах одного класса.
Карл Бэр (Von Baer) проводил свои исследования, в значительной мере заложившие основы эмбриологии как науки, в атмосфере господства трансценденталистов, характерного для биологии 20-х годов прошлого века. Для того чтобы можно было оценить масштабы открытий Бэра в эмбриологии, напомним, что он впервые описал яйцеклетку млекопитающих и хорду и сформулировал теорию зародышевых листков. На основании результатов своих работ по сравнительной эмбриологии он сделал ряд обобщений, показавших полную бессмысленность идеи о том, что животные в своем развитии повторяют все ступени лестницы живых существ. Бэр, подобно Кювье, заметил, что существует не один последовательный ряд, а четыре основных плана строения животных. Эти четыре плана ясно отражаются в их развитии. Например, хорда и нервная трубка, характерные для позвоночных, возникают на ранних стадиях развития, и таким образом «зародыш позвоночного животного с самого начала представляет собой позвоночное животное и ни в какой период не соответствует животному беспозвоночному». Зародыши позвоночных похожи только на другие зародыши позвоночных; Бэр отрицает их сходство со взрослыми особями каких-либо других животных: «...зародыши Vertebrata не проходят в процессе своего развития через перманентные формы каких-либо (известных) животных».
Бэр опубликовал в 1828 г. следующие основные обобщения - свои знаменитые законы.
1. Более общие признаки, характерные для данной крупной группы животных, выявляются у их зародышей раньше, чем более специальные признаки.
2. Из самых общих форм развиваются менее общие и так до тех пор, пока наконец не возникнет наиболее специализированная форма.
3. Каждый зародыш данной формы животных не проходит через другие формы, а, напротив, постепенно обособляется от них.
4. В целом, следовательно, зародыш какого-либо высшего животного никогда не бывает сходен ни с каким другим животным, но сходен только с его эмбрионом.
Эти эмпирические законы сохраняют свое значение до сих пор, и их действие проявляется в развитии любого позвоночного животного, и в частности излюбленного объекта исследований Бэра - куриного эмбриона. На ранних стадиях развития куриного эмбриона можно лишь увидеть, что он относится к позвоночным, потому что ранние зародыши позвоночных всех классов выглядят почти одинаково; несколько позднее в нем можно опознать птицу, и лишь еще позднее становится очевидно, что это будущая курица.
Законы Бэра сделали неприемлемой идею о рекапитуляции всей цепи живых существ, однако, как указывают Осповат (Ospovat) и Гулд (Gould), эти законы на самом деле не были несовместимы с рекапитуляцией в несколько модифицированной форме, и в конечном счете Геккель включил их в свою концепцию эволюционной рекапитуляции. Причину этого понять нетрудно. Концепция Бэра была прогрессивной. Зародыши переходят от общего и простого к частному и сложному. Сходство между зародышами высших форм и взрослыми стадиями низших форм существует и представляет собой, по мнению Бэра, неизбежное следствие двух факторов. Бэр отметил, что степень морфологической сложности и дифференциации, характерная для высших форм в отличие от низших, совпадает с возрастанием гистологической и морфологической сложности в процессе индивидуального развития. Таким образом, хотя Бэр установил, что зародыши высших животных не повторяют взрослые стадии низших форм, он признавал, что они сходны с ними по степени сложности. Современному читателю может показаться, что это противоречит четвертому закону Бэра, однако сам он объяснял, что «только потому, что наименее развитые формы животных недалеко ушли от зародышевого состояния, они сохраняют некоторое сходство с зародышами высших форм животных». С этим связан второй его закон. Бэр считал, что примитивные формы более сходны с гипотетическим архетипом, или идеализированной исходной формой, данного плана строения. Так, взрослые рыбы ближе к исходному типу, чем взрослые млекопитающие. На ранних стадиях онтогенеза как те, так и другие сходны с архетипом позвоночных, но млекопитающие в своем развитии отклоняются от него дальше, чем рыбы (рис. 1-3).
Рис. 1-3. Зародыши рыбы, курицы, коровы и человека на разных стадиях развития. Ранние стадии (верхний ряд) более сходны друг с другом, чем более поздние стадии (нижний ряд) (Haeckel, 1879).
Несмотря на то что концепция архетипа, составляющая часть трансценденталистского подхода к биологии, вряд ли могла привлекать Дарвина и его последователей, она в известной мере продолжала оказывать значительное влияние на интерпретацию эмбриологических данных. Для эволюционистов конца XIX в. ценность эмбриологических данных заключалась в их филогенетическом содержании. Тройной параллелизм Агассица и обобщения Бэра были сформулированы заново в эволюционных терминах.
В первом издании «Происхождения видов», вышедшем в 1859 г., Дарвин писал: «...В глазах большинства натуралистов строение зародыша имеет для классификации даже большее значение, чем строение взрослого животного. Зародыш - это животное в его менее измененном состоянии; и тем самым он указывает нам на строение своего прародителя». Существование архетипа здесь так же ясно Дарвину, как оно было ясно Бэру, но, конечно, Дарвин использовал эту идею иначе, чем это делал Бэр, скептически относившийся к эволюции до самой своей смерти (1876).
Согласно Дарвину: «Если две или более группы животных, как бы сильно они не различались в настоящее время по строению и образу жизни, проходят через одни и те же или сходные стадии эмбрионального развития, мы можем быть уверены, что они происходят от одной и той же прародительской формы или от почти одинаковых форм и, следовательно, находятся в близком родстве. Таким образом, общность строения зародыша указывает на общность происхождения». Дарвин считал также, что существует рациональное эволюционное объяснение и для тройного параллелизма: «Так как зародыши данного вида или группы видов частично указывают нам на строение их менее измененных отдаленных прародителей, то мы можем понять, почему древние и вымершие формы жизни должны походить на зародышей своих потомков - ныне живущих видов».
В полезности такого принципа для выяснения эволюционных взаимоотношений можно убедиться на примере любопытного цикла развития морского желудя. Морские желуди - сидячие формы, заключенные в панцирь и добывающие пищу путем фильтрации воды. Кювье (Cuvier) считал их моллюсками, но после изучения их эмбриологии стало ясно, что морские желуди вовсе не моллюски, а ракообразные. Как и у креветок, у морских желудей первой личиночной стадией служит науплиус. Но этот науплиус, вместо того чтобы, пройдя через дальнейшие личиночные стадии, превратиться в креветкообразную взрослую форму, превращается в циприсовидную личинку, напоминающую остракоду, которая оседает на подходящем субстрате и прикрепляется к нему при помощи цементных желез, расположенных у основания первой пары антенн. Осевшая личинка метаморфизирует, превращаясь в типичного морского желудя (рис. 1-4).
Рис. 1-4. Развитие двух ракообразных-морского желудя и креветки. А. Науплиус морского желудя (Balanus). Б. Циприсовидная личинка морского желудя в разрезе. В. Взрослая особь морского желудя (в разрезе). Г. Науплиус креветки Penaeus. Д. Протозоэа. Е. Первая послеличиночная стадия. У морского желудя и креветки одинаковые личинки-науплиусы, но в последующем развитии они дивергируют (Bassindale, 1936; Rees, 1970; Dobkin, 1961).