Анатолий Ланщиков - Анатолий Жигулин: «Уроки гнева и любви…»
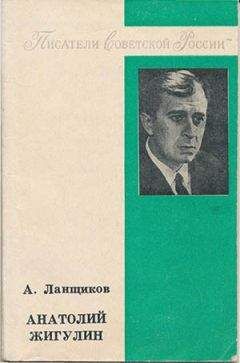
Помощь проекту
Анатолий Жигулин: «Уроки гнева и любви…» читать книгу онлайн
И если уж как–то определять жигулинскую поэзию, то ее следует назвать «серьезной поэзией» (естественно, не превращая это определение в термин), но вовсе не «тихой». Даже ранние детские воспоминания не носят у Жигулина замкнутого характера. Он говорит не «мне» памятен, а «и мне» памятен. В предпоследней строфе поэт выражает свое состояние, личное («Так странно стало на душе»), но дальше следует строфа, в которой судьба Родины, судьба народа как бы перекрывает личную судьбу («Я этот ствол, стальной и ржавый, не мог спокойно обойти: в нем наша боль, и наша слава, и веха нашего пути») (разрядка моя. — А. Л.).
Размеры статьи не позволили Е. Ермиловой широко использовать жигулинские стихи, но вот одно стихотворение она разбирает по возможности подробно («Лает собака с балкона…»).
«Одно из наиболее интересных стихотворений Жигулина, — пишет она, — начинается с такого бесспорного открытия:
Лает собака с балкона,
С девятого этажа.
Это та поэтическая «случайность», которая открывает «вдруг» целые пласты жизни. В несложном, как будто «бытовом» образе — лающей чуть не с неба собаки — отразилось одно из сложных противоречий жизни. Эмоциональная атмосфера стихотворения приносит что–то смутно–знакомое — из детства, из книг (дальний ночной лай собаки в деревне или в провинциальном городке)».
Невольно чувствуешь, что стихи здесь ломаются и подгоняются под уже ранее высказанную мысль и под тот вывод, к которому Е. Ермилова придет в конце своего разговора («память как поэтическая тема»). А между тем строчка «Лает собака с балкона, с девятого этажа…» никак не «приносит что–то смутно знакомое — из детства, из книг». В нашем детстве ни в провинциальных городках, ни тем более в деревнях не бы–ло девяти и более этажных домов, так что лающая «чуть не с неба собака» никак не может напомнить «дальних собак голоса». Правда, последняя строфа этого жигулинского стихотворения вроде бы говорит о воспоминании: «Вспомнилась черная пашня, дальних собак голоса. Маленький, одноэтажный домик, где я родился…» Но это воспоминание не по сходству, а по контрасту, как, к примеру, в горькие дни порой вдруг вспоминаются прежние радостные, в старости вспоминается собственная юность и т. д.
«Кто занес тебя, береза, на такую высоту — выше леса, выше плеса, прямо к самому кресту?..» Неужели и эта жигулинская строчка должна напомнить нам детские прогулки в березовой роще?
Анализируя стихотворение «Лает собака с балкона…», Е. Ермилова принимает в нем первую и последнюю строфы. «Но сколько между этими, — пишет она, — начальными и конечными строками вялых добавлений, риторических вопросов: «Что ты там лаешь, собака? Что ты мне хочешь сказать?», ненужных пояснений того, что и без этого ясно: «Кто–то высоко, однако, вздумал тебя привязать!»
Приведем две эти «лишние» строфы:
Что ты там лаешь, собака?
Что ты мне хочешь сказать?
Кто–то высоко, однако,
Вздумал тебя привязать!
Падает снег осторожно
В белые руки берез…
Но почему так тревожно
Лает привязанный пес?
Но убери две эти строфы, и останется, по сути дела, только «воспоминание» о детстве, так согласуемое с концепцией Е. Ермиловой, однако в таком случае исчезнут и авторское состояние, из которого родилось стихотворение, и устанавливаемая «связь» между лирическим героем и привязанной на балконе собакой: «Но почему так тревожно лает привязанный пес?»
Е. Ермилова уверяет нас, что строки «Лает собака с балкона, с девятого этажа» — «это бесспорное открытие. Да, открытие с точки зрения факта, мимо этого факта не пройдешь, так как собака–то ведь лает… Но над подобным фактом можно и посмеяться, можно им возмутиться, так как собака нарушает тишину. Но поэтическое открытие произойдет лишь тогда, когда будет выражено поэтическое отношение к факту. И Жигулин его выразил как раз в тех строфах, которые Е. Ермилова предлагает считать «лишними».
Пожалуй, на основании подобных рекомендаций можно со спокойной совестью убрать первые две строфы и четвертую из есенинского стихотворения «Собаке Качалова»: «Дай, Джим, на счастье лапу мне, такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне на тихую, бесшумную погоду» и т. д. Останется вся, так сказать, конкретная история и про «хозяина», и про «ту», что сюда «придет», но начисто исчезнут состояние, да и сам характер лирического героя.
И еще одно обвинение Е. Ермиловой в адрес А. Жигулина: «Стихи в изобилии наполняются общими местами — небогатой «мудростью», риторическими формулами, имеющими с поэзией только внешнее сходство, никакой наблюдательностью не искупается банальность таких вот «философских» деклараций»: «Ведь рядом с тихою печалью о том, что жизнь кратка моя, торжественней, необычайней земная радость бытия». А что уж тогда говорить о такой есенинской строфе?
Пожалуйста, голубчик, не лижись.
Пойми со мной хоть самое простое,
Ведь ты не знаешь, что такое жизнь,
Не знаешь ты, что жить на свете стоит.
Да, сборники афоризмов состоят из одних афоризмов (плохих и хороших), сборники пословиц и поговорок — из пословиц и поговорок, но как хлеб с изюмом содержит в себе не только изюм, так и поэзия не должна состоять из одних «открытий», открытия в поэзии должны вытекать из прописей, и тому доказательство творчество всех без изъятий наших великих поэтов.
Вполне закономерно, что в последние годы трудно было встретить проблемную или обзорную статью о поэзии в периодической печати, в которой не упоминалось бы имя Анатолия Жигулина. Его стихи давно привлекли внимание читателя и критики, но, пожалуй, именно в последние годы интерес к творчеству А. Жигулина стал устойчивым и, кажется, обещает быть продолжительным. И это ощущение порождается прежде всего зрелостью гражданского и поэтического чувства, которое невольно запечатлевается почти в каждом стихотворении А. Жигулина. На стихах А. Жигулина лежит печать не только большого и трудного жизненного опыта и поэтической зрелости, но и ярко выраженного «чувства пути», сопричастного с гражданской и духовной жизнью своего поколения.
Что же касается концепции «тихой» лирики, то ее за ненадобностью можно изъять из оборота наших литературных споров. Вреда от этого не получится никакого, а польза будет очевидная.
Статья моя «Концепция или схема?..» с небольшими сокращениями вместе со статьей Елены Ермиловой «Открытия и прописи» была опубликована в «Литературной газете» 10 января 1973 года под рубрикой;
«Два мнения о двух сборниках Анатолия Жигулина». От редакции говорилось: «В издательствах «Современник» и «Советская Россия» вышли поэтические книги Анатолия Жигулина «Свет предосенний» и «Чистое поле». Книги вызвали большой интерес у любителей поэзии, хотя их мнение и не было единым. Это отразилось в публикуемых сегодня выступлениях двух критиков — они носят полемический характер. Причем многие возражения А. Ланщикова Е. Ермиловой представляются весьма убедительными».
Я далек от мысли сковывать критика чьими–либо авторитетами, в том числе и газетным «арбитражем» (чьи суждения более убедительны, чьи менее), но у меня всегда вызывает возражения и тот «нигилизм», когда игнорируются уже ранее высказанные по какому–то поводу соображения. Статья Елены Ермиловой «Открытия и прописи» была написана так, словно все прежде сказанное о поэзии Анатолия Жигулина не заслуживало внимания.
Сборник «Прозрачные дни» вышел в семидесятом году, о нем было высказано очень много хороших слов, что в общем–то и позволило Е. Ермиловой сказать о редком единодушии «придерживающихся «самых разных мнений и взглядов» критиков Л Явлинского, Аннинского, О. Михайлова, Ал. Михайлова, Ланщикова и других…». К «другим», вероятно, можно было отнести и Вадима Кожинова, писавшего за год до публикации статьи Е. Ермиловой: «Путь, по которому с такой верностью себе следует уже столько лет Владимир Соколов, кажется мне наиболее плодотворным. И в частности, именно потому, что его поэзия не связана с какими–либо субъективными «тенденциями», с так называемыми «групповыми интересами». Тем же путем идут, конечно, и многие другие современные поэты — такие, например, как А. Жигулин, С. Куняев, А. Передреев, О. Чухонцев».
Но это, так сказать, «списочное» достоинство. А вот что конкретно говорилось о самом Жигулине: «Так, появление на этой арене (речь шла о появлении поэтов из провинции на всероссийской арене. — А. Л.), например, воронежца Анатолия Жигулина в той или иной мере изменило сам поэтический климат».
Сборники «Свет предосенний» и «Чистое поле», вызвавшие к жизни статью Елены Ермиловой, вышли год спустя, и в них, по сути дела, повторились стихи «Прозрачных дней» и ранее вышедших сборников поэта. Новых стихов в «Свете предосеннем» и «Чистом поле» было совсем немного. И «новый» Жигулин начался не в этих сборниках, а в «Прозрачных днях», рецензируя который в семьдесят втором году Аннинский справедливо говорил о Жигулине:

























