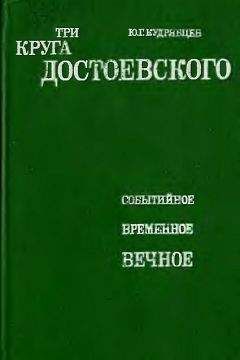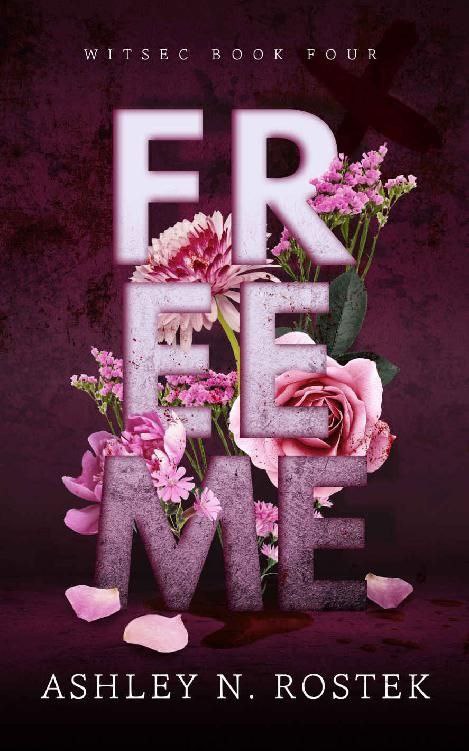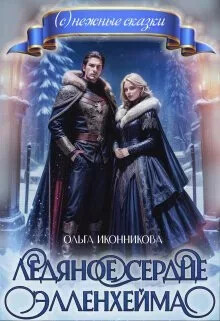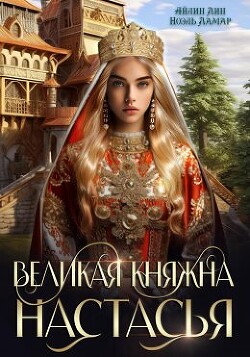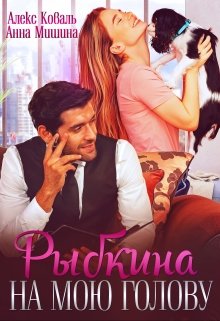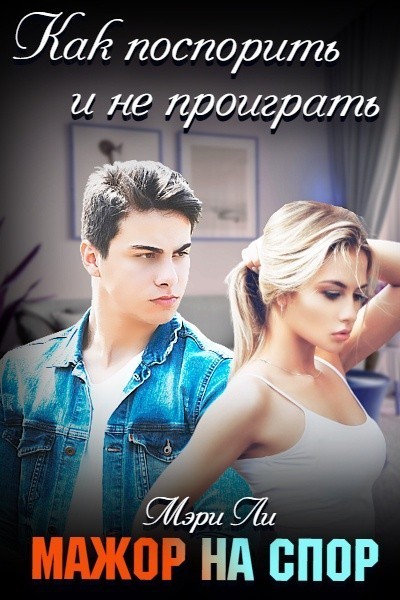Михаил Бахтин - Том 2. «Проблемы творчества Достоевского», 1929. Статьи о Л.Толстом, 1929. Записи курса лекций по истории русской литературы, 1922–1927

Помощь проекту
Том 2. «Проблемы творчества Достоевского», 1929. Статьи о Л.Толстом, 1929. Записи курса лекций по истории русской литературы, 1922–1927 читать книгу онлайн
Это великолепная описательная характеристика романной композиции Достоевского, но выводы из нее не сделаны, а те, какие сделаны, — неправильны.
В самом деле, едва ли вихревое движение событий, как бы оно ни было мощно, и единство философского замысла, как бы он ни был глубок, достаточны для разрешения той сложнейшей и противоречивейшей композиционной задачи, которую так остро и наглядно сформулировал Гроссман. Что касается вихревого движения, то здесь с Достоевским может поспорить самый пошлый современный кино-роман. Единство же философского замысла само по себе, как такое, не может служить последнею основой художественного единства.
Совершенно неправильно утверждение Гроссмана, что весь этот разнороднейший материал Достоевского принимает «глубокий отпечаток его личного стиля и тона». Если бы это было так, то чем бы отличался роман Достоевского от обычного типа романа, от той же «эпопеи Флоберовской манеры, словно высеченной из одного куска, обточенной и монолитной»? Такой роман, как «Бувар и Пекюшэ», например, объединяет содержательно разнороднейший материал, но эта разнородность в самом построении романа не выступает и не может выступать резко, ибо подчинена проникающему ее насквозь единству личного стиля и тона, единству одного мира и одного сознания. Единство же романа Достоевского над личным стилем и над личным тоном, как их понимает роман до Достоевского. С точки зрения монологического понимания единства стиля (а пока существует только такое понимание) роман Достоевского многостилен или бесстилен, с точки зрения монологического понимания тона роман Достоевского многоакцентен и ценностно противоречив; противоречивые акценты скрещиваются в каждом слове его творений. Если бы разнороднейший материал Достоевского был бы развернут в едином мире, коррелятивном единому монологическому авторскому сознанию, то задача объединения несовместимого не была бы разрешена, и Достоевский был бы плохим, бесстильным художником; такой монологический мир «фатально распадется на свои составные, несхожие, взаимно чуждые части, и перед нами раскинутся неподвижно, нелепо и беспомощно страница из Библии рядом с заметкой из дневника происшествий, или лакейская частушка рядом с Шиллеровским дифирамбом радости»[16].
На самом деле несовместимейшие элементы материала Достоевского распределены между несколькими мирами и несколькими полноправными сознаниями, они даны не в одном кругозоре, а в нескольких полных и равноценных кругозорах, и не материал непосредственно, но эти миры, эти сознания с их кругозорами сочетаются в высшее единство, так сказать, второго порядка, в единство полифонического романа. Мир частушки сочетается с миром шиллеровского дифирамба, кругозор Смердякова сочетается с кругозором Дмитрия и Ивана. Благодаря этой разномирности материал до конца может развить свое своеобразие и специфичность, не разрывая единства целого и не механизируя его.
В другой работе Гроссман ближе подходит именно к этой многоголосости романа Достоевского. В книге «Путь Достоевского»[17] он выдвигает исключительное значение диалога в его творчестве. «Форма беседы или спора, — говорит он здесь, — где различные точки зрения могут поочередно господствовать и отражать разнообразные оттенки противоположных исповеданий, особенно подходит к воплощению этой вечно слагающейся и никогда не застывающей философии. Перед таким художником и созерцателем образов, как Достоевский, в минуту его углубленных раздумий о смысле явлений и тайне мира, должна была предстать эта форма философствования, в которой каждое мнение словно становится живым существом и излагается взволнованным человеческим голосом»[18].
Этот диалогизм Гроссман склонен объяснять непреодоленным до конца противоречием в мировоззрении Достоевского. В его сознании рано столкнулись две могучие силы — гуманистический скепсис и вера — и ведут непрерывную борьбу за преобладание в его мировоззрении[19].
Можно не согласиться с этим объяснением, по существу выходящим за пределы объективно наличного материала, но самый факт множественности (в данном случае двойственности) неслиян-ных сознаний указан верно. Правильно отмечена и персоналистичность восприятия идеи у Достоевского. Каждое мнение у него, действительно, становится живым существом и неотрешимо от воплощенного человеческого голоса. Введенное в системно-монологический контекст, оно перестает быть тем, что оно есть.
Если бы Гроссман связал композиционный принцип Достоевского — соединение чужероднейших и несовместимейших материалов — с множественностью не приведенных к одному идеологическому знаменателю центров — сознаний, то он подошел бы вплотную к художественному ключу романов Достоевского — к полифонии.
Характерно понимание Гроссманом диалога у Достоевского, как формы драматической, и всякой диалогазации, как непременно драматизации. Литература нового времени знает только драматический диалог и отчасти философский диалог, ослабленный до простой формы изложения, до педагогического приема. Между тем драматический диалог в драме и драматизованный диалог в повествовательных формах всегда обрамлен прочной и незыблемой монологической оправой. В драме эта монологическая оправа не находит, конечно, непосредственно словесного выражения, но именно в драме она особенно монолитна. Реплики драматического диалога не разрывают изображаемого мира, не делают его многопланным; напротив, чтобы быть подлинно драматическими, они нуждаются в монолитнейшем единстве этого мира. В драме он должен быть сделан из одного куска. Всякое ослабление этой монолитности приводит к ослаблению драматизма. Герои диалогически сходятся в едином кругозоре автора, режиссера, зрителя на четком фоне односоставного мира[20]. Концепция драматического действия, разрешающего все диалогические противостояния, — чисто монологическая. Подлинная многопланность разрушила бы драму, ибо драматическое действие, опирающееся на единство мира, не могло бы уже связать и разрешить ее. В драме невозможно сочетание целостных кругозоров в надкругозорном единстве, ибо драматическое построение не дает опоры для такого единства. Поэтому в полифоническом романе Достоевского подлинно драматический диалог может играть лишь весьма второстепенную роль[21].
Существеннее утверждение Гроссмана, что романы Достоевского последнего периода являются мистериями[22]. Мистерия действительно многопланна и до известной степени полифонична. Но эта многопланность и полифоничность мистерии чисто формальные, и самое построение мистерии не позволяет содержательно развернуться множественности сознаний с их мирами. Здесь с самого начала все предрешено, закрыто и завершено, хотя, правда, завершено не в одной плоскости[23].
В полифоническом романе Достоевского дело идет не об обычной диалогической форме развертывания материала в рамках монологического понимания на твердом фоне единого предметного мира. Нет, дело идет о последней диалогичности, т. е. о диалогичноста последнего целого. Драматическое целое в этом смысле, как мы сказали, монологично; роман Достоевского диалогичен. Он строится не как целое одного сознания, объектно принявшего в себя другие сознания, но как целое взаимодействия нескольких сознаний, из которых ни одно не стало до конца объектом другого; это взаимодействие не дает созерцающему опоры для объективации всего события по обычному монологическому типу (сюжетно, лирически или познавательно), делает, следовательно, и созерцающего участником. Роман не только не дает никакой устойчивой опоры вне диалогического разрыва для третьего монологически объемлющего сознания, наоборот, все в нем строится так, чтобы сделать диалогическое противостояние безысходным[24]. С точки зрения безучастного «третьего» не строится ни один элемент произведения. В самом романе этот «третий» никак не представлен. Для него нет ни композиционного, ни смыслового места. В этом не слабость автора, а его величайшая сила. Этим завоевывается новая авторская позиция, лежащая выше монологической позиции.
На множественность одинаково авторитетных идеологических позиций и на крайнюю гетерогенность материала указывает, как на основную особенность романов Достоевского, и Отто Каус в своей книге «Dostojewski und sein Schicksal». Ни один автор, по Каусу, не сосредоточивал на себе столько противоречивейших и взаимно исключающих друг друга понятий, суждений и оценок, как Достоевский; но самое поразительное то, что произведения Достоевского как будто бы оправдывают все эти противоречивейшие точки зрения: каждая из них, действительно, находит себе опору в романах Достоевского.