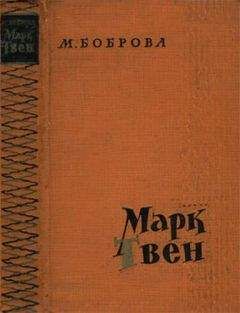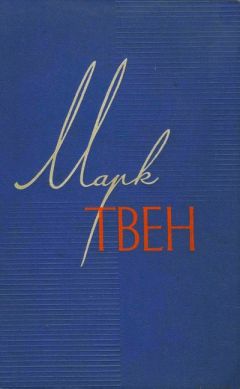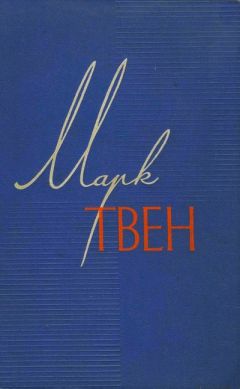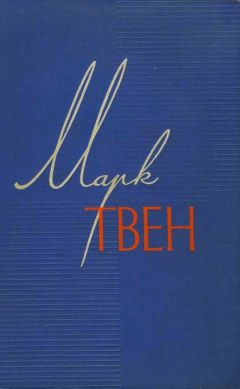Анна Ромм - Марк Твен
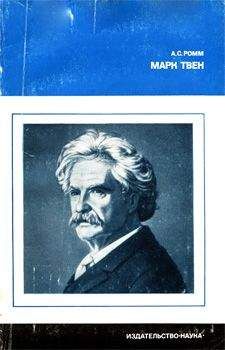
Помощь проекту
Марк Твен читать книгу онлайн
Пришелец из XIX в., Янки в своей деятельности прямо ориентируется на опыт французской революции, послуживший отправной точкой для всей истории его столетия (а в значительной степени и его страны).
История преподает Янки, а заодно и Марку Твену, жестокий урок, в чем-то сходный с тем, какой был преподан ею людям 1793 г. Рационалистическая мысль, замешанная на дрожжах Просвещения, наталкивается на существование законов истории. Они-то и оказываются незримой преградой, стоящей на пути освободительных порывов Хэнка Моргана. Тщетно пытается писатель объяснить причину постигшей его героя катастрофы. В рамках его философии истории для нее нет объяснений. Ведь для того, чтобы разгадать эту трагическую тайну, нужно понимать, что «общество… не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни отменить последние декретами», ибо в его власти только «сократить и смягчить муки родов»[90].
Антропоцентрическому просветительскому сознанию с его верой в беспредельное могущество разума как единственного двигателя прогресса эта истина недоступна. Поэтому единственный источник трагических неудач Янки Твен находит в незрелости народного сознания. «Сердца дали трещину!» — с горечью констатирует Хозяин, убедившись, что порабощенные церковью рабы не смеют ополчиться против ее зловещей власти. Но при всей убедительности такой мотивировки она проясняет лишь одну из сторон конкретной социально-исторической ситуации. Ведь всей логикой своего романа Твен показывает, что даже удавшаяся буржуазная революция не положила конец господству социального зла, а лишь видоизменила его внешние формы. Революционные потрясения 1770-х годов сделали США республикой, но отношения социального неравенства сохранились, и правит страной не рабочий из штата Коннектикут, а лицемерный стяжатель — Эндрью Ленгдон.
Трагедия Янки кроме социального имеет еще и этот метафизический смысл. Герой Твена выпадает из исторического времени, и для него не находится места ни в одной из эпох. Опыт, приобретенный им, ввергает его в состояние внутренней неприкаянности и глубокого одиночества.
Страшное кольцо, в которое попадает Янки в результате своих героических экспериментов, воспринимается как своеобразный символ всей исторической жизни человечества, поступательное движение которого совершается в пределах некой замкнутой кривой Освободительная мысль человечества заблудилась в этом зловещем лабиринте и тщетно мечется в поисках выхода. След этих метаний Твен мог усмотреть и в трудах современных ему публицистов и историков. Но хотя путь писателя и соприкоснулся с путями пессимистических культурфилософов Европы и Америки, свои идеи он почерпнул не столько из их книг, сколько из событий живой действительности. Тенденции исторической жизни Америки и всего мира, столь несовместимые с его критериями прогресса, бесконечно далекие от разума, справедливости, естественности, повергали его в трагическое недоумение, и тупик этот представлялся ему состоянием самой истории. Идея трагической бессмысленности истории сделалась одним из стержневых мотивов позднейшего творчества писателя. Вступив в противоречие с его неистребимыми гуманистическими и демократическими идеями, она сообщила им оттенок трагической безнадежности. Именно в таком противоречивом выражении предстают они в его историческом труде, посвященном Жанне д'Арк, — «Личные воспоминания о Жанне д'Арк сьера Луи де Конта, ее пажа и секретаря» — произведении, которое отчасти можно рассматривать как своеобразное продолжение «Янки». Фантастические приключения Янки, несомненно, являются прелюдией к книге о фантастике самой истории, и именно этим объясняется особое распределение ее внутренних акцентов, многие из которых, освободившись от своей гротескной условности, получили звучание неизмеримо более сильное, чем в предшествующем произведении Твена. «Жанна д'Арк» — наивысшая точка в развитии демократических идеалов Твена и одновременно самое красноречивое свидетельство их обреченности. Твен как бы воздвигает здесь памятник своей мечте, погибающей на взлете. Ее глубоко поэтическим воплощением в книге становится образ Жанны д'Арк. Интерес Твена к французской народной героине возник еще в годы его детства. Уже тогда в его душу запало зерно замысла, который вынашивался на протяжении всей жизни писателя и окончательно созрел к 1896 г. Твен задумал свое новое произведение как серьезную книгу. («Это будет серьезная книга — говорил он, — для меня она значит больше, чем все мои начинания, которые я когда-либо предпринимал»). Судьба французской крестьянки волновала в конце XIX — начале XX в. не одного Марка Твена. К ней обращались и такие художники, как Анатоль Франс и (несколько позже) Бернард Шоу. Сделавшись предметом внимания больших мастеров мирового искусства, трагедия Жанны д'Арк приобрела смысл, далеко выходивший за пределы одной эпохи истории. Их общим программным заданием стало утверждение творческих возможностей народных масс, их способности двигать историю по пути истинного прогресса. Воспитательное воздействие таких романов в период, «когда народ побеждал, хотя в борьбе с врагом гибли его лучшие дочери и сыны, трудно переоценить»[91].
Но вера в созидательные силы народа у этих писателей сочетается с горьким сознанием трагизма его исторической судьбы, столь полно воплотившейся в участи Жанны д'Арк. В ее лице сама история как бы создала обобщенный символ своей многовековой трагедии. В таком направлении и излагается летопись легендарных подвигов Жанны в книгах, ей посвященных. Различия между ними проявляются не столько в истолковании общего смысла изображаемых событий, сколько в характеристике самой Орлеанской девы.
У каждого из мастеров, создающих ее портрет, есть своя Жанна, не похожая ни на один из ее многочисленных двойников. Становясь фокусом, в котором преломляются заветные чаяния глубоко различных художников, образ Жанны д'Арк несет на себе отпечаток их неповторимой творческой индивидуальности. Таким слепком с авторской души является и Жанна д'Арк Твена. Книга о ней не принадлежит к числу его лучших созданий. Но ни в одну из них он не вложил так много своего, не раскрыл так полно то, что таилось в святая святых его внутреннего мира. «Возможно, эта книга не будет пользоваться спросом… — писал Твен в 1895 г. Г. Г. Роджерсу, — это не имеет значения — она писалась из любви к предмету» (12, 629).
Его мечта о гармонически чистом, целостном человеке, самые интимные и личные чувства которого неотделимы от гражданственных устремлений, впервые получает здесь полноту образного воплощения. Если у Бернарда Шоу Жанна д'Арк — образец крестьянского здравомыслия и практицизма, то у Твена она — олицетворение нравственного величия и удивительной душевной красоты. Эта семнадцатилетняя пастушка — подлинное «дитя природы», чистое, непосредственное, искреннее во всех проявлениях своей целостной, неизуродованной натуры. Ее образ неотделим от образа чудесного широколистного дерева, под сенью которого она родилась и выросла. Его невидимые ветви осеняют ее даже тогда, когда она уходит из родной деревни, дабы выполнить свое высокое предназначение. Природная мудрость сердца сочетается в ней с ясностью мысли, не омраченной никакими эгоистическими расчетами и нечистыми помыслами. Спасительницей родины ее делает не вмешательство небесных сил, а глубина патриотического чувства, столь естественная для простого человека, кровно связанного со своим народом и своей землей. «Она была крестьянка. В этом вся разгадка, — пишет Твен. — Она вышла из народа и знала народ» (8, 17). Нерасторжимость связи с тружениками Франции и служит залогом подвигов Жанны. Но в этой же связи — залог и ее обреченности. Безродная и бесправная дочь народа, она нарушила запреты эксплуататорского общества, поднявшись на высоты, где обитают его бездушные правители. В логово зверей пришел человек, и ему уготована здесь неминуемая гибель. Удивительная тонкость душевной организации этой простенькой девушки резко контрастирует с варварскими нравами привилегированных сословий. «Жанна, — пишет Твен в предисловии к книге, — была правдива, когда ложь не сходила у людей с языка, она была честна, когда понятие о честности было утрачено… Она была стойкой там, где стойкость была неизвестна, и дорожила честью, когда честь была позабыта. Она соблюдала достоинство в эпоху низкого раболепства» (8, 10).
Злобная, фанатически нетерпимая каста не прощает Жанне не только ее нравственного превосходства, но и ее плебейского происхождения. Судьба спасительницы Франции, преданной и проданной церковью и монархией, обобщает логику исторического процесса, в ходе которого народы мира — эта творческая созидательная сила жизни — получали лишь одну награду из рук своих хозяев — мученическую смерть. Неизменность логики истории, в основе которой на протяжении веков лежали отношения классового угнетения, подчеркивается и повествовательной формой романа. Она утверждается и посредством прямых высказываний рассказчика, и системой образного развития книги и самими принципами ее композиционного построения. Твен, как и обычно, ведет свое повествование от лица рассказчика. На сей раз эта ответственная роль поручается современнику Жанны. Рядовой представитель французского народа, сьер Луи де Конт, быть может, не всегда способен подняться до уровня Орлеанской девы. Не все в ее действиях понятно ему до конца. Но его вера в нее — неизменна, и именно в ней заключается источник его интуитивной прозорливости, помогающей ему постичь глубокий патриотический смысл подвига Жанны. В его бесхитростном изложении есть оттенок наивного удивления, явственно показывающий, что все великие события, участником которых он стал, представляются ему до некоторой степени необъяснимым «чудом», «чудом своего века и всех последующих веков» (8, 370). Слово «чудо» не сходит у него с языка, приобретая далеко не однозначный смысл. По сути дела, оно несводимо к своему узкорелигиозному, мистическому значению. В устах сьера Луи де Конта это понятие приобретает кроме иррационального особый, вполне рациональный смысловой оттенок. Он смутно чувствует, не всегда умея облечь свою мысль в логическую форму, что героические свершения Жанны есть некое отступление от привычного и узаконенного порядка вещей.