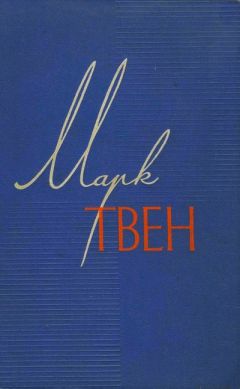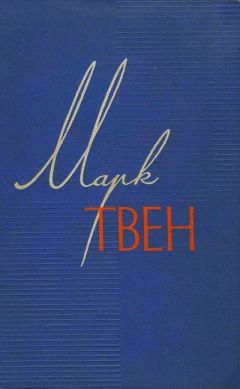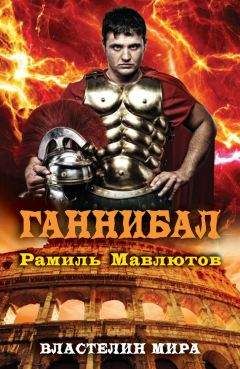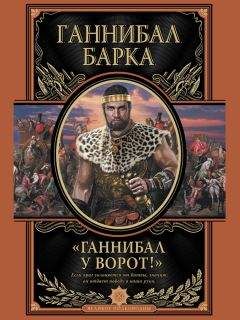Алексей Зверев - Мир Марка Твена
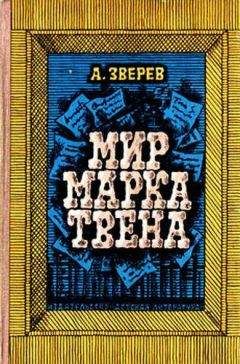
Помощь проекту
Мир Марка Твена читать книгу онлайн
С юмористами, правда, такое случается часто. Вспомним Гоголя, перечитаем «Сорочинскую ярмарку» или «Майскую ночь» — разве не поразят после этих жизнерадостных, искрящихся и солнечных страниц мрачные краски «Петербургских повестей» и многих эпизодов в «Мертвых душах»? И дело не только в том, что Гоголь как художник глубоко переменился с ходом лет. Дело еще и в коренных особенностях юмора. У великого писателя юмор — это всегда способ понять важнейшие законы жизни и сущность людей. А эти законы и человек, находящийся под их властью, не каждому внушат чувство радости. Скорее, наоборот, побудят с недоверием отнестись к оптимистам, слишком уверенно утверждающим, что жизнь прекрасна, если не считать временных и преходящих сложностей, несовершенств, неурядиц.
В свои последние годы Твен писал трактат, названный «Что есть человек». Эта рукопись осталась неопубликованной. Видимо, писатель страшился неизбежных резких нападок, да и не был до конца удовлетворен сделанным. Он не был ни теоретиком, ни мыслителем в строгом значении слова. И исходил он не из абстрактных философских выкладок, а из накопленного им самим огромного опыта. Но этот опыт целиком почерпнут из наблюдений над обществом, в котором жил сам Твен. А разъедающие язвы этого общества ему были видны яснее, чем любому другому американскому писателю того времени. И когда Твен отзывался о человеке без малейшего умиления и восхищения, он, собственно, судил общество, уродующее человеческую личность. Он оставался сатириком, точно распознающим пороки своего времени и окружающего мира, и вовсе не превращался в угрюмого мизантропа, для которого скверно и абсурдно все, что ни существует на земле.
Его упрекали в чрезмерной желчности. Внешне для таких упреков были все основания. Достаточно полистать твеновские записные книжки или заготовки к «Автобиографии». Сколько там отыщется язвительных, беспощадных слов о человеческой природе! Ну вот хотя бы: «Некоторые утверждают, что между человеком и ослом нет разницы; это несправедливо по отношению к ослу». Или запись, сделанная во время кругосветного путешествия: «Меня бесконечно поражает, что весь мир не заполнен книгами, которые с презрением высмеивали бы эту жалкую жизнь, бессмысленную вселенную, жестокий и низкий род человеческий, всю эту нелепую смехотворную канитель».
Сказано, кажется, уж до того мрачно, что суровее сказать о людях и о созданном ими мире невозможно. Но у Твена есть суждения и еще более безотрадные. Что такое — в его представлениях — человек? Всего-навсего мешанина из грубых инстинктов и чужих, заемных мыслей. Существо злое, лживое, раболепное…
Да, под старость его все чаще посещали такие вот грустные настроения. Но только неверно было бы полагать, что он отступил от своих гуманистических убеждений. Это не так. Он лишь стремился обойтись без «возвышающих обманов» и иллюзий. Ему претила трескучая болтовня либералов и радетелей о всеобщем благе, старательно не замечавших, насколько глубоко въелись в сознание множества людей фанатичные предубеждения, своекорыстные принципы, расистские поверья. Он отзывался о человеке резко, жестоко, но совсем не для того, чтобы вынести не подлежащий обжалованию приговор людскому роду, а затем, чтобы со всей четкостью указать на реальные человеческие беды, ошибки, заблуждения, которые необходимо преодолеть, если искренним остается стремление сделать мир справедливее и лучше.
И у Твена было достаточно свидетельств, подкрепляющих самые нелестные для человека выводы, к которым он приходил. О какой, допустим, «врожденной порядочности» современников можно толковать, когда «поколением раньше их отцы и тогдашние служители церкви выкрикивали все ту же святотатственную ложь, когда они захлопывали дверь перед затравленным рабом, когда побивали горстку его человеколюбивых защитников цитатами из священного писания и дубинками, когда глотали оскорбления южан-рабовладельцев и лизали им сапоги». Да если бы что-то всерьез менялось на американской земле по мере «прогресса»! Но ведь все остается как было, и только низость и бесчестье справляют свое пышное торжество. «Алчность и корысть существовали во все времена, но никогда за всю историю человечества они не доходили до такого дикого безумия, как в наши дни».
Может быть, и самого Твена пугали эти мысли. Он боялся доверять их бумаге, а доверив, прятал от чужих глаз. В записной книжке 1904 года мы найдем горькое признание: «Только мертвым позволено говорить правду».
А все же Твен ее говорил — иногда прямо, чаще завуалировано, но так, что читатели его хорошо понимали. Тот Простофиля Вильсон, чьи сентенции послужили эпиграфами в книге «По экватору», был главным героем повести, созданной Твеном в 1894 году. Повесть — она так и озаглавлена: «Простофиля Вильсон» — не имела успеха у тогдашней публики. Сейчас ясно, что это одно из наиболее значительных произведений Твена. Здесь снова перед нами крохотный городок в Миссури, на берегу реки — он называется Пристань Доусона, но мог бы называться и Санкт-Петербургом, и Ганнибалом. И время действия — снова годы юности Твена, эпоха, предшествовавшая Гражданской войне.
Но до чего все в этой повести не похоже на атмосферу, памятную по «Тому Сойеру» и даже по «Геку Финну»! Не осталось ни следа от былого уютного, дремлющего под жарким солнцем мирка, где люди душевно расположены друг к другу и обязательно встретится бесконечно добрая тетя Полли или тетя Салли, а если ее заботливая опека начнет приедаться, всегда можно сбежать на Джексонов остров, а то и на романтичную индейскую территорию. Теперь вместо уюта — черствость и скотский быт заскорузлых провинциалов, вместо доброты — повседневно чинимая и никем даже не замечаемая жестокость, вместо романтики — серенькая, убогая будничность, в которой глохнет все человечное, все по-настоящему живое.
И вот в таком-то захолустье оказывается человек наблюдательный, думающий, независимый, а обыватели тут же решают, что он наверняка с придурью, и дают ему прозвище Простофиля. По своим интересам, по своим духовным запросам Вильсон стоит на несколько порядков выше, чем все жители Пристани Доусона, вместе взятые, однако пройдет добрых двадцать лет, прежде чем это поймут и признают, да и то волею случайности. А пока Вильсону остается лишь возиться со стеклышками, на которые он снимает отпечатки пальцев своих соседей — так, забавы ради, просто из интереса к новой технике, разработанной криминалистами, — и заполнять страницы дневника краткими суждениями о жизни, которую он наблюдает.
Цитаты из его «Календаря» вынесены в качестве подзаголовков к главам, и они сумрачны до безнадежности. Все вокруг отвратительно, ничтожно, мерзко. А какие претензии, какая фанаберия, какое непрошибаемое самодовольство всех этих миссурийских рабовладельцев, мнящих себя светочами разума и гордых, точно индюки!
«Когда я раздумываю над тем, сколько неприятных людей попало в рай, — записывает Простофиля, — меня охватывает желание отказаться от благочестивой жизни». На земле, в Доусоне, с такими людьми, хочешь или нет, приходится соприкасаться ежедневно. Ну что же, у Вильсона достаточно причин мечтать об аде, если и за гробом ему предстоит общаться все с той же самой публикой. Ведь на его глазах преспокойно отправляют в низовья реки, туда, где страшные хлопковые плантации, ничем не провинившихся темнокожих слуг, и ради денег не брезгают никакой подлостью, и площадной бранью осыпают тех, перед кем еще вчера в ожидании каких-то выгод лакейски расшаркивались. И на его глазах развертывается история двух мальчиков, которые родились в один и тот же день и под одной крышей, но сразу же очутились на противоположных полюсах. Потому что Том — отпрыск состоятельного торговца и спекулянта земельными участками, а Чемберс — сын горничной, в чьих жилах есть малая толика негритянской крови.
Как тут не вспомнить «Принца и нищего»! Опять знакомый мотив двойников, которые от природы одинаково наделены и разумом, и чувством, но оказываются словно бы выходцами из разных миров, поскольку в жизни все решает не природа человека, добрая и прекрасная, а его социальное положение, богатство, престиж, унаследованный от предков. Действительно, исходная мысль здесь та же самая, что и в повести о Томе Кенти и принце Эдуарде, но разработана она совсем иначе, потому что за годы, разделяющие два произведения, очень изменился сам Твен.
Мальчиков поменяли в колыбели, и тот, кто от рождения бесправен, пользуется всеми преимуществами полноправного и достопочтенного гражданина Доусона, а тот, кто по крови должен принадлежать к верхушке местного общества, попадает на самое дно. В «Принце и нищем» эта ситуация обозначала глубокую — и подлинную — родственность всех людей, которую Твен считал чем-то само собой разумеющимся, как безусловной представлялась ему та истина, что человек по своей природной сущности доброжелателен, гуманен, справедлив. Поэтому и коллизия увенчалась в той повести счастливым финалом — как и подобает сказке.