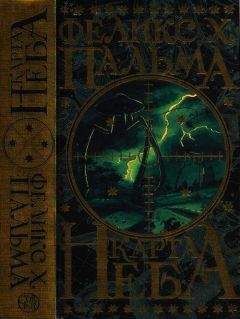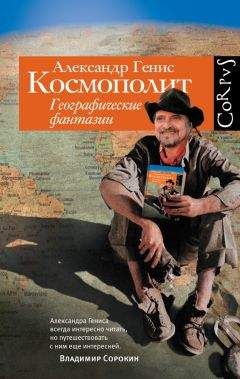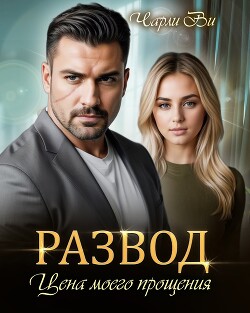Александр Генис - Довлатов и окрестности

Помощь проекту
Довлатов и окрестности читать книгу онлайн
Автор, например, узнаёт, что его брат, ведя пьяным машину, сбил прохожего. Дальше идет телефонный разговор:
— Ты, наверное, в жутком состоянии?! Ты ведь убил человека! Убил человека!..
— Не кричи. Офицеры созданы, чтобы погибать…
Смех у Довлатова, как в «Криминальном чтиве» Тарантино, не уничтожает, а нейтрализует насилие. Вот так банан снимает остроту перца, а молоко — запах чеснока.
Юмор и страх внеположны друг другу, но, соединяясь, они образуют динамичную гармонию, составные части которой примиряются, не теряя лица.
Смешав ярко-красный с темно-синим, художник получит серую краску. От разведенной сажи или испачканных белил этот цвет отличает чрезвычайная интенсивность. Рожденная из кричащего противоречия серость хранит память о необычном происхождении. Соседство смешного и страшного у Довлатова заменяет черно-белую картину мира серой. Будни в его рассказах окрашены серостью преодоленного ужаса и подавленного смеха.
6Среди тех, кто умеет смешить, редко встречаются весельчаки. Над своими шутками им не позволяет смеяться этикет, а над чужими — гордость. Довлатов же, обожая веселить других, любил и сам посмеяться, делая это необычайно лестным для собеседника образом — ухая и растирая кулаком слезы.
Однажды, собрав смешные казусы из газетной жизни, мы с Вайлем сочинили «Преждевременные мемуары». Показали их Довлатову. Уханье из-за стены доносилось настолько часто, что мы заранее порозовели от предстоящих похвал. Но приговор Сергея был суровым: не найдя тексту ни формы, ни смысла, мы, сказал он, разбазарили смешной материал. В прозе юмор должен не копиться, а работать.
В те годы я был уверен, что юмор — не средство, а цель. Одержимый идеей мастерства, я заменял все другие оценки словом «смешно», потому что в нем слышались лаконизм и точность. Анекдот убивают длинноты и отсебятина. Смешное, как стихи или музыку, нельзя пересказать — только процитировать. Поскольку юмор — это то, что остается, когда убирают лишнее, смешное — первичная стихия литературы, в которой словесность живет в неразбавленном виде.
Довлатов такой взгляд на вещи не разделял и делал все, чтобы от него нас отучить. В его письмах я обнаружил суровую отповедь: «Отсутствие чувства юмора — трагедия для литератора, но отсутствие чувства драмы (случай Вайля и Гениса) тоже плохо».
Нам он этот тезис излагал проще: хоть бы зубы у вас заболели. Иногда Сергей с надеждой спрашивал:
— Ну признайся, вы с Петей хоть раз подрались?
В себе Сергей чувство драмы лелеял и холил. Никогда не забываясь, он прерывал слишком бурное веселье приступом хандры. Обнаружить то, что ее вызвало, было не проще, чем объяснить сплин Онегина. Сергея могло задеть неловкое слово, небрежная интонация, бесцеремонный жест. И тогда он мрачнел и уходил, оставляя нас размышлять о причинах обиды.
Мнительность была его органической чертой. Плохие новости Сергей встречал стойко, хорошие — выводили его из себя. Он ждал неудачу, подстерегал и предвидел ее.
Отстаивая право переживать, в том числе и впустую, Довлатов бесился из-за нашей полупринципиальной-полубездумной беззаботности. Как-то в ответ на его очередную скорбь я механически бросил:
— А ты не волнуйся.
В ответ Сергей, не признававший ничего не значащих реплик, взорвался:
— Ты еще скажи мне: стань блондином.
Довлатов считал себя человеком мрачным. «Главное, — писал он в одном письме, — не подумай, что я веселый и тем более счастливый человек». И вторил себе в другом: «Тоска эта блядская, как свойство характера, не зависит от обстоятельств».
Я ему не верил до тех пор, пока сам с ней не познакомился. Мне кажется, это напрямую связано с возрастом. Только дожив до того времени, когда следующее поколение повторяет твои ошибки, ты убеждаешься в неуникальности своего существования.
Источник тоски — в безнадежной ограниченности твоего опыта, которая саркастически контрастирует с неисчерпаемостью бытия. От трагедии тоску отличает беспросветность, потому что она не кончается смертью.
«Печаль и страх, — пишет Довлатов, — реакция на время. Тоска и ужас — реакция на вечность».
Дело ведь не в том, что жизнь коротка, — она скорее слишком длинна, ибо позволяет себе повторяться. Желая продемонстрировать истинные размеры бездны, Камю взял в герои бессмертного Сизифа, показывая, что вечная жизнь ничуть не лучше обыкновенной. Когда доходит до главных вопросов, вечность нема, как мгновенье.
Бродский называл это чувство скукой и советовал доверять ей больше, чем всему остальному. Соглашаясь с ним, Довлатов писал: «Мещане — это люди, которые уверены, что им должно быть хорошо».
Для художника прелесть тоски в том, что она просвечивает сквозь жизнь, как грунт сквозь краски. Тоска — дно мира, поэтому и идти отсюда можно только вверх. Тот, кто поднялся, не похож на того, кто не опускался.
Раньше в довлатовском смехе меня огорчал привкус ипохондрии. Но теперь я понимаю, что без нее юмор — как выдохшееся шампанское: градусы те же, но праздника нет.
Довлатов не преодолевает тоску — это невозможно, — а учитывает и использует. Именно поэтому так хорош его могильный юмор. В виду смерти смех становится значительным, ибо она ставит предел инерции. Не умея повторяться, смерть возвращает моменту уникальность. Смерть заставляет вслушаться в самих себя. Человек перестает быть говорящей машиной на пути к кладбищу.
Такое путешествие Довлатов описывает в рассказе «Чья-то смерть и другие заботы»: «Быковер всю дорогу молчал. А когда подъезжали, философски заметил:
— Жил, жил человек и умер.
— А чего бы ты хотел? — говорю».
Поэтика тюрьмы
С тех пор как кончилась советская власть, моим любимым поэтом стал александрийский грек Кавафис. Я даже переснял карту Александрии — не той, которая была центром мира, а той, которая стала его глухой окраиной. В Александрии я не был, но хорошо представляю ее себе по другим городам Египта. Слепящая пыль, мальчишки, с вожделением разглядывающие выкройки в женском журнале, подозрительный коньяк «Омар Хайям» из спрятанной в переулок винной лавки, на закуску — финики с прилипшей газетной вязью. Стойкий запах мочи, добавляет путеводитель.
Меня покоряет пафос исторической второсортности Кавафиса. Он называл себя поэтом-историком, но странной была эта история. В сущности, его интересовала лишь история нашей слепоты. В стихах Кавафиса множество забытых императоров, проигравших полководцев, плохих поэтов, глупых философов и лицемерных святых. Кавафиса волновали только тупики истории. Спасая то, что другие топили в Лете, он, заполняя выеденные скукой лакуны, делал бытие сплошным. Кавафис восстанавливал справедливость по отношению к прошлому. Оно так же полно ошибок, глупостей и случайностей, как и настоящее.
При этом Кавафис отнюдь не собирался заменять историю победителей историей проигравших. Его проект радикальней. Он дискредитирует Историю как историю, как нечто такое, что поддается связному пересказу. История у Кавафиса не укладывается в прокрустово ложе причин и следствий. Она распадается на странички, да и от них в стихи попадают одни помарки на полях. Каждая из них ценна лишь истинностью. Оправдание ее существования — ее существование.
Самоупоенно проживая отведенный им срок, герои Кавафиса не способны выйти за его пределы. Их видение мира ограничено настоящим. Все они бессильны угадать судьбу. Чем и отличаются от автора, который смотрит на них, обернувшись: их будущее — его прошлое. Так Кавафис вводит в историю ироническое измерение. Форма его иронии — молчание. Устраняясь из повествования, он дает выговориться другим. Автор не вмешивается, не судит, не выказывает предпочтения. Он молчит, потому что за него говорит время.
При чем тут Довлатов? При том, что крайне оригинальную точку зрения Кавафиса на мир разделяет выросшее на обочине поколение, голосом которого говорил Довлатов.
Дело в том, что с горизонта довлатовской прозы советская власть исчезла задолго до своей кончины. Сам того не замечая, Довлатов глядел на нее как историк — в том, конечно же, смысле, который вкладывал в это слово Кавафис.
Главное в этом взгляде — не мудрость, а смирение: мы видим не то, что знаем, а то, на что смотрим. Не меньше, но ни в коем случае и не больше.
Это не так просто. Ведь нас учили тому, что история, как жизнь, обладает началом и концом. Что в ней всегда есть смысл, придающий значение нашим дням. Смотреть на вещи прямо означало отказаться от претензии понять их взаимосвязь. Мы вновь оказывались в мире, который нельзя объяснить — ни происками властей, ни капризом злой воли.
Как Кавафис, Довлатов не подправлял, но провоцировал реальность, заставляя ее высказаться там, где ее голос звучит яснее всего, — в зоне: «Я оглядел барак. Все это было мне знакомо. Жизнь с откинутыми покровами. Простой и однозначный смысл вещей».