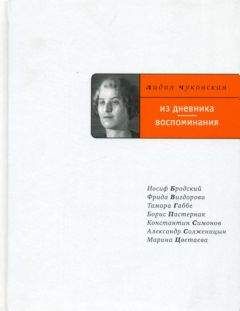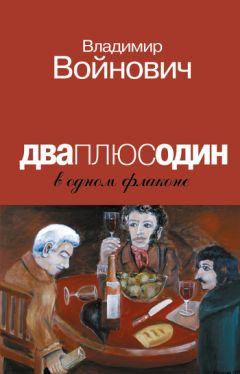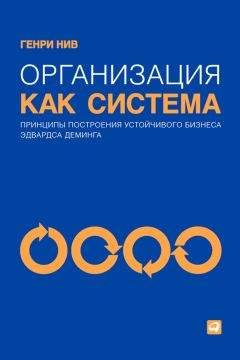Дмитрий Сегал - Пути и вехи: русское литературоведение в двадцатом веке
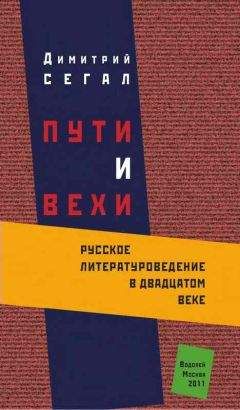
Помощь проекту
Пути и вехи: русское литературоведение в двадцатом веке читать книгу онлайн
Консерватизм истории русской литературы проистекал (и проистекает до сих пор!) не только из некоего внутреннего качества, присущего этой дисциплине как таковой, но и из особенных обстоятельств, связанных с характером истории вообще как дисциплины, с характером специально русской истории как процесса социальной и индивидуальной жизни и с вытекающими отсюда условиями бытования русской литературы в историческом разрезе. Соответственно, многое в творчестве историков русской литературы вообще и Ю. М. Лотмана, его соратников и учеников, в частности, определяется этими специфическими моментами, связанными с историей во всех ее видах, формах и аспектах.
Если говорить об «исконном консерватизме» истории русской литературы, то, кажется, он связан, прежде всего, с необыкновенной сохранностью основных ценностей, оценок и критических шкал, относящихся к русской литературе в широкой среде так называемой образованной интеллигентной публики. Здесь и постоянные характеристики творчества и личностей и постоянное размещение по рангу всех основных русских писателей, поэтов и драматургов, и удивительно стабильное предпочтение — до сих пор! — ценностей народнической критики, среди которых главные — это любовь к простому народу и любовь к России.
Я не берусь судить, насколько подобный консерватизм характерен для самого современного, по-настоящему сегодняшнего, этапа русской культурной истории, но более или менее очевидно, что он был характерен для всего двадцатого века. Соответственно, построение любой общей или частной истории русской литературы должно иметь дело с этим консерватизмом: либо идти, так или иначе, в его струе (но при этом сознательно, понимая, что могут быть и другие возможности), либо как-то с этим консерватизмом критически разобраться, выдвигая свои шкалы ценностей, свои критические критерии, свои, наконец, литературные процессы, явления, фигуры и факты.
Школа Ю. М. Лотмана реагировала на этот фундаментальный вызов, который характерен для традиционной картины истории русской литературы. Одним из ответов на такого рода вызовы был поиск новых парадигматических фигур литературного плана, пропущенных традиционной консервативной историей русской литературы, особенно в том, что касается допушкинского и пушкинского периодов русской литературы. Параллельно этому, уже в конце двадцатого века появляется целый ряд фундаментальных работ, которые подобную же задачу выполняют для периода первой половины двадцатого века. Здесь следует отметить классические труды Е. Д. Тоддеса, А. В. Лаврова, Р. Д. Тименчика, Н. А. Богомолова.
Сам характер истории как дисциплины ставит много сложных проблем перед историей литературы. С нашей точки зрения, одной из таких мучительных проблем является напряжение, существующее между традиционным подходом к истории, опирающимся на хронотопическую систему координат, и попытками найти какие-то иные, внутренне не менее релевантные исходные системы построения истории. В первом случае совершенно естественно предполагается, что история может быть только историей какого-то определенного пространства, места, страны, народа. Соответственно, история литературы в этом смысле — это всегда история литературы, проецируемая на соответствующую хронотопическую историю, и обратно. В альтернативном подходе за исходный исторический субъект принимается либо какая-то отдельная, партикулярная группа людей, а не народ или этническое единство (например, социальный класс, профессия, группа людей, объединяемая общим интересом, или общей судьбой), или любой развивающийся феномен, представляющий интерес — знаковый или производственный комплекс, набор привычек или знаний, комплекс приемов и проч.
В истории литературы напряжение между историей национальной литературы и транснациональной историей литературных жанров, форм, влияний, а также историей литературных институций, традиций и проч., равно, как и более очевидное для обыкновенного читателя напряжение между историями разных литератур существует и существовало всегда. Это напряжение может носить весьма плодотворный характер, когда точка зрения на данную литературную историю с позиции иной истории литературы может давать интересные перспективы и менять сложившиеся консервативные соотношения ценностей. До сих пор не сложился, но в принципе может быть очень интересным и многообещающим подход к созданию многонациональной истории литературы, когда литературные явления на разных языках заполняли бы какие-то важные ниши, некоторые из которых могли бы отсутствовать в отдельно взятой истории литературы, но в целом являли бы более полную и, в каком-то смысле, идеальную картину. В этом плане, например, интересно было бы создать некую гипотетическую совместную историю польской и русской литератур, когда окажется, что в определенные периоды развитие тех или иных жанров в каждой из этих литератур восполняет соответствующие пробелы в другой.
Школа Ю. М. Лотмана — это специфически построенная руссоцентрическая история русской литературы. Это совершенно естественное и само собой разумеющееся обстоятельство накладывает важный отпечаток на работы, выполненные и выполняемые в рамках этого направления. При этом и здесь весьма существенны моменты обращения к инонациональным литературным школам, традициям и направлениям. Так, для работ Ю. М. Лотмана по истории русской литературы конца XVIII — начала XIX века очень важно обращение к материалу французской литературы. Для исследований по истории новейшей русской литературы начала двадцатого века (А. В. Лавров, Н. А. Богомолов) важен выход за рамки русской литературы в параллельно существовавшие тогда тенденции символизма в других европейских литературах.
Рискуя повториться, скажу, что на характер складывающейся в России картины истории русской литературы, наложило свой неповторимый и, увы, тяжелый отпечаток и само историческое время, в котором происходило складывание этой картины. Невозможно даже бегло перечислить все чудовищные потери в поле литературы и связанных с ней явлений культуры, которые были нанесены всеми катастрофами, войнами и революциями, которые произошли в России. Среди них гибель литераторов и их творческого наследия — это, конечно, центральная трагическая перипетия. Но не менее существенно и истребление библиотек, закрытие и недоступность литературных и культурных архивов, выведение из культурного обихода целых огромных пластов культурного наследия и современной культурной жизни — насильственное прекращение деятельности важнейших литературных и культурных институций и проч. и проч.
Огромная заслуга Ю. М. Лотмана и его школы состоит в том, что они стали первыми, кто начал еще в 60-е годы систематическую работу по подготовке реальной базы для историко-литературоведческих исследований, работу, которая активно ведется и в наши дни. Это масштабные систематические исследования по спасению и описанию литературного наследия, благодаря которым — несмотря на огромное институциональное сопротивление — удается включить в культурный оборот художественные ценности, которые всего двадцать лет назад казались навсегда погибшими в водовороте социальных бурь и преследований. Более того, эта деятельность по спасению культуры двадцатого века приобрела более широкие рамки, когда уже в самое последнее время стала разворачиваться работа по открытию и упорядочению архивов русской эмиграции и диаспоры.
Эти внутри- и вненаучные обстоятельства и традиции и определили во многом лицо истории русской литературы, которое складывается к настоящему времени и которое можно подытожить следующим образом: с одной стороны, отсутствие исторической и культурной непрерывности институтов и обычаев привело к тому, что история русской литературы не располагает галереей академических биографий поэтов, писателей и других деятелей литературы, которые были бы выполнены в спокойном объективном и стоящим над скандалами и полемикой духе; с другой же стороны, история русской литературы все время занята заполнением лакун в других параллельных историях — истории языка, истории идей, истории общественных и политических движений, которые, увы, находятся пока в еще более печальном состоянии, чем история русской литературы. Работы Ю. М. Лотмана и его школы во многом стремились восполнить разнообразные лакуны, оставленные сложным и жестоким временем в понимании литературы и ее роли в истории.
В рамках этого обзора невозможно будет даже бегло упомянуть о всех важнейших исследованиях Ю. М. Лотмана и его школы в этой области. Скажу лишь о тех, которые, по моему мнению, оказали наибольшее влияние на ландшафт русского литературоведения — а изменения в этом ландшафте под влиянием Лотмана и его школы были поистине гигантскими. Прежде всего я должен упомянуть об исследованиях многолетней соратницы Ю. М. Лотмана в его трудах, его жены Зары Григорьевны Минц. Эти исследования более близки мне по своей тематике: история и поэтика русского символизма. По сути дела, З. Г. Минц сама, в единственном числе, основала эту интереснейшую исследовательскую область и во многом определила её лицо вплоть до сегодняшнего дня. Её замечательные статьи о творческом пути, биографии и поэтике стихов Александра Блока, руководимый ею великолепный «Блоковский сборник», много лет выходивший в Тарту, в котором печатались работы о Блоке, — всё это вернуло живого Блока, во всём богатстве его облика и во всей неизъяснимой прелести его стихов, в русскую культуру, а через неё и в мировую культуру. Отдельно следует отметить, что всё это новое блоковедение и по духу своему, и по методике своей было абсолютно новым, современным, конгениальным тому юному Блоку, стихи которого в начале XX века создали новый мир современной русской поэзии. Помимо неоспоримых и колоссальных успехов в методологии традиционного литературоведения, особенно во всём, что касалось источниковедения, З. Г. Минц (и, конечно, сам Ю. М. Лотман) активно применяли к своим объектам исследования самые новые методы анализа. Так, созданные ими частотные словари лексики изучавшихся ими поэтов (вслед за пионерскими исследованиями в этой области Ю. И. Левина) внесли много нового и дотоле неизвестного в понимание поэзии.