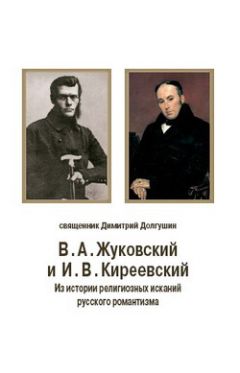Владимир Кантор - В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ: опыт русской классики

Помощь проекту
В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ: опыт русской классики читать книгу онлайн
Но собеседник должен уметь и видеть, и слышать. Из тех, кто посетил сей мир в роковые минуты, не каждый становится достойным собеседником богов. Карамзин стал. Прекраснодушный мечтатель, сентиментальный ревнитель просвещения, он сумел увидеть суровую линию исторического развития.
И вижу ясно, что с Платоном Республик нам не учредить, С Питтаком, Фалесом, Зеноном, Сердец жестоких не смягчить. Ах! зло под солнцем бесконечно. И люди будут — люди вечно — писал сам Карамзин в 1794 году.
Тоска и грусть его слов не требуют пояснений. Но именно эта жажда идеала обратила его к истории своего отечества: чтобы понять, как жить, как можно воздействовать на жизнь, необходимо разобраться в принципах государственно-исторического устройства родной страны. Это была его личная потребность, но она совпала с общественной…
В 1803 году Карамзин назначен историографом с окладом 2000 рублей в год. Главный выразитель государственного самосознания император Александр I хотел знать историю государства, которым он управлял. К началу XIX века Россия вошла в тесный, небывалый ранее контакт с Европой как могучее и жизнеспособное государство, а не как стихийная азиатская орда. На взгляд европейцев, однако, русское государство возникло почти что из ниоткуда. В отличие от изоляционистских концепций Татищева и Щербатова, историографов XVIII века, необходим был взгляд, рассматривавший Россию не изолированно, а в новом историческом контексте, в контексте европейской истории, пусть поначалу этот контекст и будет чисто литературным, мысленным, не выявленным научно (сравнения с Римом и Грецией, воспоминания о Таците и Ливии, как предшественниках, на которых ориентируется русский историк). Необходимо было показать, что Россия — страна с историей, а не случайный пришелец, страна, достойная своих европейских соседей. Вместе с тем надо учесть и то обстоятельство, что общение с Европой шло теперь не только на государственном уровне, но и на общественном. В России, по мнению Белинского, с конца XVIII века возникает общество, и это общество тоже хочет понять, что же оно такое, ибо оно не уверено, что имеет достойное внимания историческое прошлое, особенно сравнивая рабскую жизнь в России с европейскими свободами. «Восклицание известного Фёдора Толстого, — замечает Эйдельман, — (после прочтения Карамзина): «Оказывается, у меня есть Отечество!» — выражало ощущение сотен, даже тысяч образованных людей»{47}. Это была вторая линия, определявшая потребность в историческом исследовании. Карамзин, писал С. М. Соловьёв, уже «предчувствует в истории науку народного самопознания»{48}. Но необходим был человек, способный объединить эти два интереса в один и одухотворить его своим личным интересом, интересом свободной и независимой личности, которая пытается не предписывать истории свои законы, а постигать их. Мудрость, понятая молодыми современниками историка (включая и юного Пушкина) далеко не сразу.
«Молодые якобинцы», полемизировавшие с Карамзиным, мечтавшие о немедленном создании республики по новгородскому образцу, не желали учитывать исторического своеобразия развития и становления России, решительными мерами надеясь превратить её в подобие Европы… Если вспомнить о крепостном праве, военных поселениях, солдатчине, то нетерпение понятное, естественное. Но в известном смысле путь к неподражательному, истинному европеизму, о котором, как мы знаем, мечтал и Карамзин, возможен только через самопознание и самосознание, через реальное знание о себе и отказ от идеологических иллюзий, как консервативных, так и либеральных, во всяком случае, если и не отказ, то осмысление их. «Карамзин, — пишет исследователь, — не устаёт повторять своё: что общество, государство складываются естественно, закономерно и всегда соответствуют духу народа, что преобразователям, нравится или не нравится, придётся с этим считаться. Он не сомневается, кстати, что и алжирский, и турецкий, и российский деспотизм, увы, органичны; эта форма не подойдёт французу, шведу, так же как шведское устройство не имеет российской или алжирской почвы»{49}. Так что же делать? Принять самодержавие как последнее слово русской истории? В этом обвиняли Карамзина будущие декабристы. Но у историка была другая задача. Введение исторического параметра превращало хаос Прошлого в закономерно развивающийся космос.
Исторические персонажи обретают человеческий облик, а, стало быть, на них распространяется и понятие ответственности, моральной ответственности за их поступки, за управление страной и людьми. Только «прошедший» «Историю» Карамзина Борис Годунов мог оказаться героем пушкинской драмы. Карамзин применяет к русским царям и боярам, действовавшим в духе своей эпохи, мерки просвещённого человека начала XIX века воспитанного на идеях Руссо и Энциклопедистов, он судит своих героев, а обретение персонажами исторической драмы ответственности за свои поступки, превращение их в людей и есть подлинная гуманизация. «Наш Ливии — Славянин, — писал Жуковский. —… Пред нами разрывал // Завесу лет минувших, // И смертным сном заснувших // Героев вызывал… » Умение одушевить историю — одна из важнейших особенностей историка. «Карамзиным… и его деятельностью, — писал Ап. Григорьев, — общество начало жить нравственно… Он стал историком «государства Российского»; он, может быть, сознательно, может быть, нет… подложил требования западного человеческого идеала под данные нашей истории… Карамзин был уже… человек захваченный внутренне общечеловеческим развитием и потому бессознательно-последовательно прилагавший его начала к нашей истории и быту»{50}.
Это вот «золотое сечение», наложенное на историю, человеческая мера, применённая к историческим событиям и историческим деятелям, была мерой жизни самого Карамзина, мерой его отношения как к друзьям, противникам, так и к «сильным мира сего». Парадокс Карамзина в том, что, сохраняя в душе республиканские идеалы, он стал монархистом, ибо полагал, что самодержание не случайный эпизод для России, а возникло исторически. «Но этот монархист (по справедливому наблюдению Н. Я. Эйдельмана)… не умел, не мог лгать во спасение и говорил любимым монархам страшные вещи, да ещё так писал про их предшественников, что будущий декабрист-смертник восклицал: «Ну Грозный! Ну Карамзин!»{51}. И потому далеко не случайна внутренняя независимость Карамзина, его чувство собственного — человеческого — достоинства, прямота и искренность, с которыми он шёл по жизни, глядел на мир и писал свою Историю. Исторический труд Карамзина Пушкин назвал «подвигом честного человека». Этот подвиг оказался возможным, потому что Карамзин был один из самых внутренне свободных людей своего времени, независимо державший себя и с царём, и с радикалами. «Карамзин первый показал, что писатель может быть у нас независимым»{52}, — отметил Гоголь.
При этом он как мог и в ком мог, старался «пробуждать чувства добрые». Он неоднократно заступался за Пушкина, пытался облегчить участь декабристов, сумел сделать добрейшего Жуковского воспитателем наследника, будущего Александра II, он был независим и потому к нему тянулись люди самых разных ориентации, ибо независимость — это сила, привлекающая людей. Трудно представить сегодня масштабы этой личности, стоявшей у поэтической колыбели Пушкина, личности, сумевшей дать русской культуре исторический критерий событий, оценить человека в истории, а историю оценить человеческой мерой. Каждый начинал — после чтения Карамзина — ощущать себя участником Истории. Трудно переоценить это завоевание. С историком можно было спорить (воспитанный на Карамзине Достоевский, как известно, представлял русскую историю много трагичнее), но миновать его было уже нельзя. Да и не надо. Его и сегодня надо знать.
«Первый наш историк и последний летописец»{53}— так Пушкин определил Карамзина. Он на рубеже. С него начинается научное изучение истории. Но с его «Истории» начинается и «новая эпоха русской литературы», ибо литература после Карамзина — это литература, обратившаяся к человеку в его соотнесении с историей народа и государства.
III. «СВОБОДЫ СЕЯТЕЛЬ ПУСТЫННЫЙ… »
Стихотворение 1823 года:
Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды…
Почему, однако, называл себя Пушкин «пустынным» сеятелем свободы? Пустынный — значит «одинокий», живущий в уединённой обители, в келье. А декабристы? Ведь их было немало. Впрочем, мы знаем, что поэт глядел на жизнь и историю много трезвее политических прожектёров — своих друзей. И не случайно стихотворение считалось, да и считается выражением разочарования поэта «в возможности успешной пропаганды свободы»{54}. Действительно, Пушкин говорит вполне определённо: народ не готов пока к свободе: