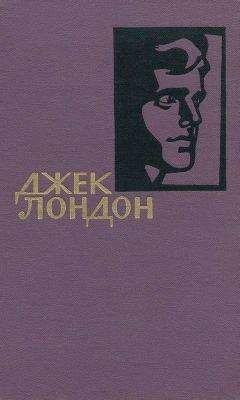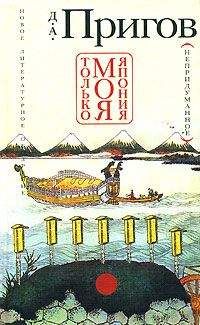Евгений Добренко - Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов
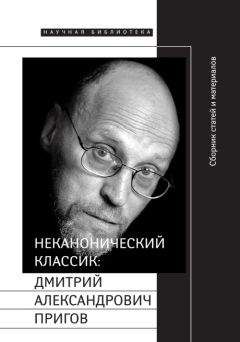
Помощь проекту
Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов читать книгу онлайн
Д.А.П.: Запсихую.
Г.Д.Б.: Не буду знать, куда себя девать.
Д.А.П.: Григорий Давидович, я не знаю, как убивать время жизни.
Г.Д.Б.: Привычка?
Д.А.П.: Привычка — ведь это, знаете, не просто привычка как-то проводить день. Эта привычка воздействует на физиологию организма. И со временем становится почти физиологической потребностью. Если бы я не занимался этим сорок лет, возможно, мой организм по-другому бы функционировал, имел бы другие потребности в этой жизни и иначе бы их удовлетворял. Но сейчас у меня выжжено все остальное в пределах моего духовного, душевного и даже физиологического организма. Я ничем не могу на долгое время увлечься или отвлечься. Единственное, что меня занимает в качестве медитативной практики, это моя деятельность. Но она мне больше напоминает не трудовую деятельность, а именно медитативную, или даже мистериально-медитативную. Я сейчас не могу ничем другим заниматься. У меня испорчена физиология. И в данном случае искусство — это род гигиены.
Г.Д.Б.: Я думаю, одна из причин наших занятий — желание бессмертия: не умереть каким-то образом, продлить свою жизнь.
Но образ всамделишного гения вызывает улыбку. Иногда улыбку умиления. Например, в случае с [Эрнстом] Неизвестным, который, кроме себя, искренне никого не замечает. Помните, у Набокова в «Даре»: «Он любил себя вполне разделенной любовью»[14]. Но иногда такая позиция вызывает уже брезгливую улыбку. Это бывает в случае, когда художник говорит куратору, директору музея, коллекционеру, журналисту: «Я — гений, а товарищ мой — сволочь, обманщик, говно-художник». Причем подобные разговоры ведут люди, которые совсем не витают в облаках, — они сознательно занимаются наветами с целью занять место своих товарищей в музейной экспозиции или в частной коллекции. С одной стороны, переписать историю искусств «под себя», по своему вкусу, с другой, — отнять у ближнего презренный металл.
Д.А.П.: Если брать гения не как тип одаренности, а как психотип, то Неизвестный — совершенный и гармоничный тип. Он относится к другим спокойно и иронически. В литературе был аналог — поэт [Александр] Величанский, который тоже считал себя гением. Он говорил: «Ой, дурачок…»[15]. Без всякой инвективы, спокойно. Так что в этом отношении как раз Янкилевский недо-гений, потому что какие-то недостроенные части художественного организма Янкилевского, провалы, глубокие комплексы, заставляют его компенсировать структурную провальность внешними гиперусилиями опорочивания других. Выливаются в социокультурную агрессивность.
Человек, который говорит о себе «гений», предполагает себя живущим в вечности. Что ему мелкие дела земные? Если ты работаешь на вечность, так и работай… Я, например, никогда не предполагал, что я работаю для вечности. Я просто работаю. У меня нет претензий быть в вечности, поэтому я спокойно отношусь к настоящему. А тут человек говорит: «Я творю для вечности» — но тут же, при жизни, требует немедленного подтверждения этих «вечностных» амбиций. Я думаю, что за этим стоит порочность самой художественной позы гения, которая была отработана уже в последний раз символистами и в какой-то мере футуристами в их амбиции художника — всеобъемлющего гения.
Сейчас эта поза смотрится, конечно, карикатурной. Смешноватой.
Г.Д.Б.: Отчасти в силу того, что культура стала более ироничной, рефлексирующей…
Д.А.П.: Она стала не монокультурой, а поликультурой. Раньше, со времен Просвещения, считалось, что существует одна культура, соотвественно, один высокий стиль, все остальное — «низкое». И тот, кто занял главные позиции в иерархии высокого стиля, тот и есть главный художник, гений, учитель и пророк. Наше время — плохо это или хорошо — породило совсем другую социокультурную структуру и другой тип художника. Гений, пророк, единственный совершенный творец в нашем мире просто не находит себе ниши.
Г.Д.Б.: На московской художественной сцене доминирует идея нетерпимости — я не имею в виду, например, взаимной неприязни коммерческого и некоммерческого искусства, но стремление отстоять царство одной идеи, одной истины.
Д.А.П.: Проблема московской ситуации в том, что мизерно количество участников. Но еще более мизерно количество денег и галерей. А это порождает ощущение того, что мест, куда можно пристроиться художникам, вообще немного. Отсюда — попытки завладеть этими ресурсами. Притом, конечно, любой художественный мир строится из объективных культурных, социальных и экономических предпосылок, но в то же время, и вы это знаете, он формируется из личных отношений и случайных связей. В мировой художественный процесс затянуто гигантское количество людей, количество встреч, связей, контактов. Просто на много порядков выше, чем в пределах российского искусства.
Желание диктовать правила, поведение, нормы вообще свойственно человеку. И западному, в частности. Но в западном художественном мире это невозможно, потому что там много центров власти. Есть Америка. Есть Европа. Есть актуальное искусство. Есть радикальное искусство. Со своими научными и исследовательскими центрами. В России, к сожалению, разнообразия нет.
Г.Д.Б.: В старые времена мы все работали, с точки зрения западного человека, непонятно для чего.
Д.А.П.: …Но в то же время с неимоверной горячностью…
Г.Д.Б.: …не получая денег…
Д.А.П.: …не заставляя себя…
Г.Д.Б.: …не имея надежды выставиться…
Д.А.П.: …хранить свои работы…
Г.Д.Б.: …для музея в небесах. Для виртуального музея. Для виртуальной публики…
Сейчас ситуация другая. Один мой знакомый русский художник, более или менее принадлежавший к нашему кругу, в постсоветское время взял и перестал работать. На вопрос «Почему?» он сказал: «Потому что никому не нужно то, что я делаю, никто не покупает, никто не выставляет…» И он не один такой! Мне кажется это странным. Я понимаю, ряд мосховских художников переквалифицировались в бизнесмены, потому что перестали зарабатывать в своих комбинатах. Для них искусство было лишь способом зарабатывать. Один бизнес не получился — займемся другим. Но в нашем кругу…
Д.А.П.: Но ведь это интересно. Те художники, которые сейчас бросили работать, в то старое, советское, время работали как художники. Это говорит о том, что в те времена были другие понятия социальной престижности. Быть в кругу московского андерграунда было очень престижно — это заменяло деньги и прочие атрибуты признания. Сейчас само по себе занятие художника не престижно, если ты не удачлив. Прийти куда-то и сказать: «Я художник» — зачем? Услышишь в ответ: «Ну и что?» Я думаю, что обращение российских художников от искусства к другим занятиям связано, конечно, с резкой сменой статуса и престижности этого занятия.
Г.Д.Б.: Большинство андерграундных художников нашего и старшего поколений переместились на Запад.
Д.А.П.: Я думаю, 90 %. Даже больше. Из нашего круга в Москве остались: [Борис] Орлов, я, [Ростислав] Лебедев и [Андрей] Монастырский. Всё.
Г.Д.Б.: Но я должен сказать, что вы, двурушник-цэрэушник, одной полужопой сидите на Западе. И мерцаете себе. Вы, кстати, очень любопытный в этом смысле пример.
Д.А.П.: Экземпляр…
Г.Д.Б.: Вообще же в неофициальном искусстве наше поколение малочисленно.
Д.А.П.: Можно даже назвать по именам. Нас не так много. Это [Виталий] Комар, [Александр] Меламид, [Леонид] Соков, [Александр] Косолапов, вы, я, Орлов и Лебедев. И Монастырский.
ГДЕ ЖИВУТ РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ?Г.Д.Б.: Когда меня спрашивают на Западе: «Кто вы такой?», я говорю: «Я — русский художник, живущий в Нью-Йорке». Я не идентифицирую себя как американского художника. Хотя и выставляюсь регулярно в западных галереях и вхожу в «Who is Who in American Art». В западном искусстве я — заинтересованный зритель, болельщик на стадионе, который с удовольствием наблюдает футбольный матч. Какова ситуация на поле? Как расположились игроки? Кто и куда забил гол? Все это мне интересно, но я приехал на Запад после сорока. Вдруг стать американцем было бы смешно, да и неинтересно.
Д.А.П.: А как было с тем поколением? [Наум] Габо, [Натан] Певзнер[16], [Марк] Шагал… Как они себя позиционировали?
Г.Д.Б.: Например, Кандинский уехал на Запад полунемцем — художником, впитавшим в себя немецкую культуру.
Д.А.П.: Но он все равно остался русским художником.
Г.Д.Б.: У Шагала, безусловно, был имидж русского художника. Западную культуру он впитал в себя и переварил, будучи в России. До своего отъезда.
Д.А.П.: Как очень многие. Нет никаких вопросов по поводу Ларионова и Гончаровой: они действительно просто русские художники, жившие на Западе.