Славой Жижек - Накануне Господина: сотрясая рамки
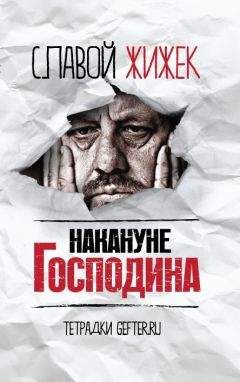
Помощь проекту
Накануне Господина: сотрясая рамки читать книгу онлайн
Вопрос, который здесь следует поставить, заключается в том, является ли это действительно подлинно глубоким антагонизмом. Сразу же становится видно, чего здесь не хватает, – радикально-левой альтернативы. Отражает ли это тот факт, что в 1989 году, с распадом коммунизма, завершились два столетия левой «парадигмы», что эта «парадигма» просто исчерпала свой потенциал, пусть даже в последнее время кое-где и предпринимались не вполне продуманные попытки возродить ее (в Латинской Америке, в Непале)? Неужели сегодня коммунизм попросту перестал быть той Идеей, которая производит раскол? Попробуем прояснить этот ключевой пункт при помощи, может быть, неожиданной параллели с переходом от Закона к любви у святого Павла. В обоих случаях (Закона и любви) мы имеем дело с расколом, с «расколотым субъектом»; однако модальности раскола совершенно разные. Субъект Закона «децентрирован» в том смысле, что он попал в саморазрушительный порочный круг греха и Закона, в котором один полюс порождает противоположный; Павел дает непревзойденный пример этого положения в Послании к Римлянам, 7:
«Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек!»
Таким образом, проблема не просто в том, что я разрываюсь между противоположностями, между законом и грехом; проблема в том, что я даже не способен ясно отличить одно от другого: я хочу следовать закону, а оказываюсь во грехе. Этот порочный круг (не столько преодолевается, сколько) разрывается, человек вырывается из него в опыте любви, а точнее в опыте радикальной пропасти, отделяющей любовь от Закона. В этой пропасти коренится принципиальное отличие пары «закон/грех» от пары «закон/любовь». Пропасть между законом и грехом – не настоящее различие: их истина в их взаимовключении или смешении – закон порождает грех и питается им. Лишь в паре «закон/любовь» мы добиваемся реального различия: два этих момента радикально разделены, их нельзя «опосредовать», одно не является формой проявления другого. Поэтому неправомерен вопрос «Означает ли это, что мы обречены на вечный раскол между Законом и любовью? А как же синтез Закона и любви?» Раскол между Законом и грехом имеет радикально иную природу, нежели раскол между Законом и любовью: вместо замкнутого круга взаимного усиления мы имеем разграничение двух различных сфер, попросту не действующих на одном уровне. Поэтому, когда мы полностью осознаем измерение любви и ее коренное отличие от Закона, то любовь в некотором смысле уже победила, поскольку такое отличие можно увидеть, только находясь в состоянии любви, с позиции любви.
Цель этого теологического экскурса должна быть теперь ясна: бесконечная борьба между либеральной вседозволенностью и фундаменталистской нетерпимостью устроена соответственно расколу между Законом и грехом – в обоих случаях противоположные полюса порождают и укрепляют друг друга, их антагонизм составляет основу наших затруднений. С другой стороны, отличие Закона от любви соответствует отличию тотальности существующего глобального капиталистического целого (которому присущ антагонизм либеральной демократии и фундаментализма) от радикальной освободительной (коммунистической) идеи выхода из него. Разница между либерализмом и левым радикализмом заключается в том, что, хотя они и говорят об одних и тех же трех элементах (либеральном центре, правом популизме, левом радикализме), они по-разному их размещают: для либерального центра левый и правый радикализм – две формы проявления одной и той же «тоталитарной» неумеренности, в то время как для левых настоящую альтернативу составляют только они сами и либеральный мейнстрим, а «радикальные» правые служат лишь симптомом неспособности либерализма справиться с левой угрозой. Когда мы сегодня слышим, как некий политик или идеолог, предлагая нам выбор между либеральной свободой и фундаменталистским подавлением, торжествующе (и сугубо риторически) спрашивает: «Хотите ли вы, чтобы женщины были исключены из общественной жизни и лишены элементарных прав? Хотите ли вы, чтобы всякая критика или насмешка над религией каралась смертью?» – то уже самоочевидность ответа должна вызвать у нас подозрения – ведь кто мог бы хотеть такого? Проблема в том, что этот упрощенческий либеральный универсализм давно потерял невинность. Вот почему для настоящего левого конфликт между либеральной вседозволенностью и фундаментализмом – это в конечном счете конфликт ложный, это порочный круг двух полюсов, порождающих и предполагающих друг друга. Здесь следует сделать гегелевский шаг назад и поставить под вопрос сами мерки, с точки зрения которых фундаментализм предстает во всем своем ужасе. Сказанное Максом Хоркхаймером о фашизме и капитализме (тому, кто не желает критиковать капитализм, следует помалкивать и о фашизме) следует применить и к сегодняшнему фундаментализму: тем, кто не желает (критически) говорить о либеральной демократии и ее благородных принципах, следует помалкивать и о религиозном фундаментализме.
Как же понимать это превращение освободительного порыва в фундаменталистский популизм? В подлинном марксизме тотальность – критическое понятие, а не идеал: определить феномен в его тотальности означает не увидеть скрытую гармонию Целого, а включить в систему все присущие ему «симптомы», антагонизмы, нестыковки как его неотъемлемые части. Возьмем пример из современности. Либерализм и фундаментализм формируют «тотальность»: структура оппозиции либерализма и фундаментализма такова, что сам либерализм порождает свою противоположность. А как же ключевые ценности либерализма – свобода, равенство и т. д.? Парадокс в том, что сам по себе либерализм недостаточно силен для того, чтобы уберечь их – то есть собственную суть – от атаки фундаментализма. Почему? Проблема либерализма заключается в том, что он не держится сам по себе: в конструкции либерализма чего-то не хватает, он «паразитичен» по своей идее, так как опирается на предполагаемую систему общинных ценностей, которые подрывает своим развитием. Фундаментализм является реакцией – конечно же, ложной, мистифицирующей реакцией – на реальные изъяны либерализма, и поэтому он вновь и вновь порождается либерализмом. Предоставленный самому себе, либерализм постепенно расшатает сам себя, и единственное, что может спасти его основы, – это обновленное левое движение. Или, если использовать известную формулировку времен Пражской весны 1968 года, либерализм, чтобы сохранить свое ключевое наследие, нуждается в братской помощи радикальных левых. Реагируя на общеизвестную характеристику марксизма как «ислама XX века», секуляризирующую абстрактную фанатичность ислама, Пьер-Андре Тагиефф написал, что ислам оказывается «марксизмом XXI века», после падения коммунизма продолжая его яростный антикапитализм. Но разве новейшие разновидности исламского фундаментализма не подтверждают давнюю интуицию Вальтера Беньямина, что «всякий подъем фашизма свидетельствует о неудавшейся революции»? Подъем фашизма – это неудача левых, но в то же время и доказательство того, что революционный потенциал, недовольство, которыми левые не смогли воспользоваться, все же были. И разве это не справедливо применительно и к сегодняшнему так называемому «исламо-фашизму»? Разве не соответствует подъем радикального исламизма исчезновению светских левых сил в мусульманских странах? Когда Афганистан изображается как крайне фундаменталистская мусульманская страна, кто вспомнит, что еще сорок лет назад это была страна с сильной светской традицией, где коммунистическая партия была настолько влиятельна, что пришла к власти независимо от Советского Союза?
Даже когда речь идет о несомненно фундаменталистских движениях, следует проявлять осторожность, чтобы не упустить из виду социальную составляющую. Талибан часто представляют как фундаменталистскую исламистскую группировку, террором добивающуюся власти, – однако, когда весной 2009 года они взяли долину Сват в Пакистане, «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Талибан спровоцировало «классовый переворот, воспользовавшись огромным разрывом между маленькой группой богатых землевладельцев и их безземельными арендаторами». Однако в том, как в этой статье «Нью-Йорк Таймс» говорится о «способности Талибана использовать классовые различия», обнаруживается ее идеологическая предвзятость: как будто «истинные» планы Талибана лежат в какой-то другой сфере – в религиозном фундаментализме – и оно всего лишь «использует» тяжелое положение бедных безземельных крестьян. К этому нужно добавить всего две вещи. Во-первых, такое противопоставление «настоящих» намерений и корыстной манипуляции навязывается Талибану извне: как если бы сами бедные безземельные крестьяне не воспринимали свои бедствия в понятиях «религиозного фундаментализма»! И во-вторых, если способность Талибана «использовать» тяжелое положение земледельцев «вызывает тревогу за Пакистан, в значительной степени остающийся феодальным», то что же мешает либеральным демократам в Пакистане и в США также «использовать» это положение и попытаться помочь безземельным крестьянам? Тот факт, что «Нью-Йорк Таймс» не ставит этот очевидный вопрос, содержит горькую истину, что феодальные силы в Пакистане являются «естественным союзником» либеральной демократии.

























