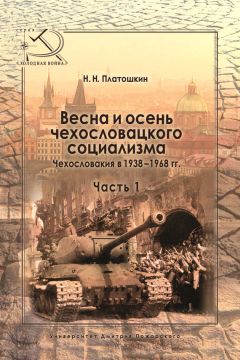Гюстав Лебон - Психология социализма

Помощь проекту
Психология социализма читать книгу онлайн
Между тем, у них не было недостатка в предупреждениях, но они исходили извне, от лиц, мнение которых, очевидно, не могло приниматься в расчет, так как они не принадлежали к дипломатическому кругу. Тотчас после захвата Киао-Чау, довершившего ряд нарушений прав Китая со стороны западных народов, морской офицер Л. де Соссюр предсказывал в «Journal de Geneve», что «чаша вскоре переполнится и очень скоро разразится государственный переворот, который, по всей вероятности, начнется с низложения императора».
Как бы то ни было, философ должен быть всегда довольно осторожен в своих предсказаниях, не идти в них далее лишь очень общих указаний, выведенных главным образом из глубокого изучения характера рас и их истории, а во всем остальном ограничиваться установлением фактов.
Оптимизм или пессимизм, какими мы окрашиваем установление фактов, представляют собой только известные оттенки изложения, могущие облегчить эти объяснения, но не имеющие сами по себе никакого значения. Они зависят только от темперамента и особенностей данного ума. Мыслитель, привыкший наблюдать неумолимое сцепление вещей, в большинстве случаев придаст своей оценке событий пессимистическую окраску; оценка событий ученым, для которого мир представляет собой лишь любопытное зрелище, будет иметь характер безропотной покорности всему происходящему или равнодушия ко всему. Исключительно оптимистические представления о вещах и событиях встречаются почти только у одних совершенных глупцов, избалованных судьбой и довольных своей участью. Но если мыслитель, философ и, случайно, человек слабого ума умеют наблюдать, то их выводы относительно явлений неизбежно будут одинаковы настолько же, как фотографии одного и того же памятника, снятые различными фотографами.
Подвергать суду уже совершившиеся события, устанавливать ответственность тех или других, расточая порицания или похвалы, как то делают многочисленные историки, — занятие совершенно ребяческое, которым историки будущего основательно будут пренебрегать. Сцепление причин, создающих события, гораздо могущественнее людей, принимающих в них участие. Самые достопамятные из великих исторических событий, например, падение Вавилона или Афин, упадок Римской империи, реформация, революция, последние наши погромы — все это должно приписывать не отдельным личностям, а целым поколениям. Картонный паяц, который, не подозревая существования двигающих его нитей, порицал бы или восхвалял движения других паяцев, конечно, был бы совершенно не прав.
Человеком руководит среда, обстоятельства и, в особенности, воля мертвых, т. е. те таинственные наследственные силы, которые в нем живут. Они управляют большей частью наших поступков и имеют тем большую силу, что мы их не замечаем. Когда в редких случаях мы имеем свои собственные мысли, то они воздействуют разве лишь на еще не родившиеся поколения.
Наши действия — наследие долгого прошлого; все последствия их скажутся только в будущем, которого мы уже не увидим. Один только переживаемый нами период времени имеет для нас некоторую ценность, а между тем, в жизни расы это такой короткий промежуток времени, что он не имеет почти никакого значения. Нам даже невозможно оценить действительную важность событий, происходящих перед нашими глазами, потому что влияние их на нашу личную судьбу заставляет нас преувеличивать их значение. Эти события можно сравнить с маленькими волнами, беспрестанно появляющимися и исчезающими на поверхности реки, и не влияющими на ее течение. Насекомое, унесенное на листочке и поднимаемое этими волнами, принимает их за целые горы и совершенно основательно боится их напора. На самом же деле влияние их на течение реки равняется нулю.
Основательное изучение социальных явлений приводит нас к следующему двоякому положению: с одной стороны, эти явления управляются длинной цепью законов и, следовательно, могут быть предусмотрены высшим разумом, но с другой — такое предвидение в большинстве случаев недоступно таким ограниченным существам, как мы.
Между тем человек всегда будет стараться приподнять завесу, скрывающую от него непроницаемое будущее, даже сами философы не могут избежать этого тщетного любопытства. Но, по крайней мере, они знают, что их предвидения — только гипотезы, основанные преимущественно на аналогиях, заимствованных у прошлого, или выведенные из общего хода вещей и основных черт характера народов. Они знают также, что предвидения, даже самые верные, должны ограничиваться лишь ближайшим будущим, и что даже в этом случае, по многим неведомым причинам, они могут не оправдаться. Прозорливый мыслитель, изучая общее настроение умов, конечно, мог предвидеть французскую революцию за несколько лет до ее начала, но как бы он мог предугадать появление Наполеона, завоевание им Европы и империю?
Итак, научный ум не может выдавать за достоверные свои предвидения относительно состояния общества в далеком будущем. Он видит, что некоторые народы возвышаются, другие идут к упадку, а так как история прошлого учит, что склонность к упадку почти никогда не прекращается, то он имеет основание сказать, что те, которые начали спускаться по наклонной плоскости, будут продолжать падать. Он знает, что учреждения не могут изменяться по воле законодателей. а видя, что социалисты хотят совершенно расстроить всю организацию, на которой покоятся наши цивилизации, он легко может предсказать катастрофы, которые последуют от этих попыток. Конечно, это только очень общие предсказания, несколько приближающиеся к категории тех простых и вечных истин, которые известны под названием общих мест. Самая передовая наука должна довольствоваться этими весьма недостаточными приближениями.
Что же, в самом деле, могли бы мы сказать о будущем, когда мы почти совсем не знаем даже того мира, в котором мы живем, и когда наталкиваемся на непроницаемую стену каждый раз, как только пожелаем узнать причину явлений и исследовать действительность, скрывавшуюся за внешностью? Сотворены или не сотворены видимые нами предметы, действительно ли они существуют или нет, вечны они или скоропреходящи? Оправдывается чем-либо существование мира или нет? Обусловлены ли происхождение и развитие вселенной волей высших существ или же управляются слепыми законами, той верховной судьбой, которой, по понятиям древнего мира, все должно повиноваться: и боги и люди?
В мире нравственном наши сомнения ничуть не меньше. Откуда мы пришли? Куда мы идем? Все наши мечты о счастье, справедливости и правде, иное ли что, как только иллюзии, созданные приливом крови к мозгу и совершенно противоречащие убийственному закону борьбы за существование? Все эти опасные вопросы оставим под сомнением, потому что сомнение граничит с надеждой. Мы несемся на удачу по волнам океана неведомых вещей, которые становятся все более и более таинственными по мере того, как мы силимся определить их сущность. И только изредка в этом непроницаемом хаосе загораются иногда на мгновения какие-нибудь огоньки, какие-нибудь относительные истины, которые мы называем законами, когда они не представляются слишком скоропреходящими.
Нужно примириться с тем, что нам дано лишь знание этих неопределенностей. Правда, это ненадежные руководители, но только они нам и доступны. Науке уже не приходится признавать других. Древние боги не дали нам лучших. Конечно, они дали человеку надежду, но не они научили его извлекать пользу из окружающих его сил и тем облегчать свое существование.
К счастью для человечества, оно не призвано искать побуждений для своих действий в этих недоступных и холодных областях чистой науки. Оно всегда нуждалось в чарующих иллюзиях и пленяющих галлюцинациях. Ни в тех, ни в других никогда не было недостатка. Химеры политические, иллюзии религиозные, мечты социальные всегда держали нас в своей деспотической власти. Эти обманчивые призраки были и вечно будут нашими властителями.
С тех пор, как человек вышел из первобытного варварства, он в течение тысячелетий неустанно создавал себе иллюзии, которым поклонялся и на которых созидал свои цивилизации. Каждая из них очаровывала его в течение некоторого времени, но всегда наступал час, когда она теряла для него обаяние, и тогда он употреблял на ее разрушение столько же усилий, сколько потратил ранее на ее созидание. Теперь еще раз человечество возвращается к этой вечной задаче, быть может единственной, которая может заставить его забыть жестокость судьбы. Теоретики социализма только снова начинают трудное дело создания новой веры, призванной заменить веру древних веков, в ожидании того времени, когда роковой круговорот вещей обречет и ее, в свою очередь, на гибель.
БУДУЩНОСТЬ СОЦИАЛИЗМА
§ 1. Условия, в которых социализм находится в настоящее время. Краткий обзор благоприятных и неблагоприятный условий развитию социализма. Социализм гораздо более является умственным состоянием, чем доктриной. Опасность его заключается не в том, что к нему примыкает толпа, а в том, что он привлекает просвещенные умы. Социальные перевороты начинаются всегда сверху, а не снизу. Пример французской революции. Состояние умов в момент французской революции. Аналогия его с современной эпохой. Правящие классы теряют в настоящее время всякую веру в справедливость своего дела. Обещания социализма.