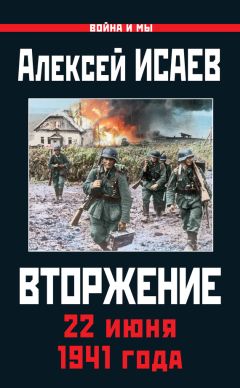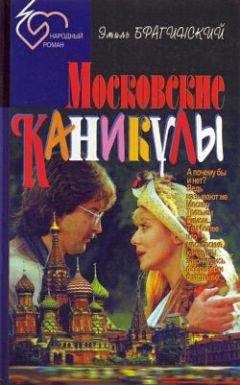Лев Безыменский - Гитлер и Сталин перед схваткой
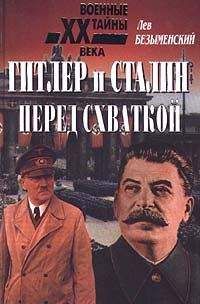
Помощь проекту
Гитлер и Сталин перед схваткой читать книгу онлайн
— В апреле он же доносил о некомплекте среднего политсостава в Красной Армии (9 841 человек).
— 26 апреля Тимошенко и Жуков потребовали пополнения в 100 тысяч человек для реализации программы модернизации ВВС.
— Замнаркома Кулик докладывал Сталину о срыве производства 57, 76 и 88-мм бронебойных трассирующих снарядов, 107, 122 и 152-мм бронебойных и полубронебойных снарядов.
Эти вопросы, фиксировавшиеся в секретных приложениях к протоколам Политбюро, — лишь выборка, мозаика. Но и она не дает оснований полагать, что в Москве «спали». Другое дело — на какое время планировалось завершение всех оборонных мероприятий. А это был конец 1942 года.
Карусель противоречивых указаний Сталина наркому обороны, а от наркома — в войска, вертелась весь период февраля — июня 1941 года. Взять хотя бы вопрос об укреплениях на границе. Еще в 1940 году начали строить новые укрепленные районы (УР), но их нечем было оборудовать. Загорелся спор — снимать ли артиллерию со старых УР, существовавших до 1939 года по линии старой границы УССР и БССР (эту линию немцы почему-то называли «линией Сталина»). Шапошников, Жданов и заместитель наркома Кулик выступали за частичное снятие. Жуков и Тимошенко были против, считая, что линия еще пригодится. Сталин согласился с первым, а затем… со вторым. Поэтому 8 апреля 1941 года генштаб приказал не ликвидировать, а «законсервировать» 6 важнейших УР. 14 апреля последовал другой приказ — о приведении в готовность новых укрепленных районов.
В том же апреле 1941 года по докладу Жукова Сталин согласился усилить прикрытие западной границы. Требуя максимальной скрытности, он разрешил под видом лагерных сборов выдвинуть из глубины страны две армии — одну в Белоруссию, другую — на Украину. В мае генштаб перебросил к границам 28 дивизий и 4 армейских управления.
Когда 13 июня Тимошенко попросил указания о приведении войск в боеготовность и развертывании первого эшелона прикрытия, Сталин ответил лишь: «Подумаем». 14 июня Сталин запросил данные о числе советских дивизий, и когда ему доложили, спросил: «Ну вот, разве так мало? Немцы, по нашим данным, не имеют столько войск».
Сейчас трудно сказать, откуда это взял Сталин. Жуков доложил, что у него 149 дивизий и 1 отдельная бригада. У немецких трех групп армий (Лееб, Бок, Рундштедт) было 135 дивизий. Но они и по численности, и по боевой силе значительно превосходили советские. Единственное, в чем Сталин был прав, — это в количественном составе советских танковых сил и ВВС. Они действительно превосходили немецкие. Советских танков — 23 200, самолетов — 22 000. Больше, чем немецких, — но устаревших!
Жуков называл свои чувства в те дни «раздвоенными». Действительно, с одной стороны меры принимались, с другой — далеко не достаточные. «Раздвоенными» были и действия Сталина. Так, 21 июня 1941 года он разрешил дать директиву о приведении войск в готовность. Но в той же директиве велел «не поддаваться на провокации» (замечу: даже этот приказ ушел в округа в 00.30 22 июня, а до многих частей дошел уже после немецкого нападения). В тот же день 21 июня колебания охватили Политбюро. Сохранился рукописный набросок, сделанный Георгием Маленковым. Он говорит о том, что Политбюро собирается распорядиться о создании четырех фронтов и о приведении их в полную готовность. Однако текст так и не был подписан. В архиве остался лишь набросок.
Теперь, очевидно, можно вернуться к поставленному в начале вопросу: как мог Сталин «просмотреть» немецкую угрозу, как он допустил, что Красная Армия понесла такие поражения?
Сейчас просто можно исключить термин «просмотрел». Число донесений всех видов разведки за 1940-1941 годы настолько значительно, что речь может идти только о сознательном игнорировании разведывательных сведений. Так, если учитывать только те доклады, которые доходили прямо до Сталина, то получается такая выразительная картина:
Июнь 1940 года — 7
Июль — 19
Август — 13
Сентябрь — 9
Октябрь — 4
Ноябрь — 5
Декабрь — 7
Январь 1941 года — 12
Февраль — 13
Март — 28
Апрель — 51
Май — 43
1-22 июня — 60
Если даже отвлечься от качественных оценок донесений и уровня их достоверности, то говорить можно только о слепой уверенности Сталина в успехе своего политического маневра. Ведь к июню 1941 года характер донесений уже не допускал сомнения в их полной достоверности, так как речь шла не о надежности агентов, а об абсолютной надежности технических средств, в том числе перехвата телефонных переговоров и дешифровки донесений японских, итальянских, турецких источников. Например, что можно было сказать о докладе замнаркома госбезопасности Кобулова от 20 июня, в котором сообщалось о перехвате телефонного разговора посла Шуленбурга от 16 июня:
«Я лично очень пессимистически настроен и, хотя ничего конкретного не знаю, думаю, что Гитлер затевает войну с Россией. В конце апреля месяца я виделся лично с Гитлером и совершенно открыто сказал ему, что его планы о войне с СССР — сплошное безумие, что сейчас не время думать о войне с СССР. Верьте мне, что я из-за этой откровенности впал у него в немилость и рискую сейчас своей карьерой и, может быть, я буду скоро в концлагере. Я не только устно высказал свое мнение Гитлеру, но и письменно доложил ему обо всем. Зная хорошо Россию, я сказал Гитлеру, что нельзя концентрировать войска у границ Советского Союза, когда я ручаюсь, что СССР не хочет войны. Меня не послушали».
Нужно было обладать поистине сталинской самоуверенностью, чтобы еще не верить в угрозу!
Размышляя на эту тему и примеряя к ситуации весны — лета 1941 года все рациональные резоны, я поймал себя на мысли: а можно ли действия Сталина и его самого мерить обычными мерками? И для отрицательного ответа (не боясь упрека в новом культе личности) позволю себе привести некоторые аргументы.
Первый из них — общий для всех диктаторов. Дело в том, что эти люди живут в своем особом, совершенно необычном для нас и не соприкасающемся с внешними явлениями мире. Специфика жизни Гитлера известна, Сталина — меньше. Но существование особого мира очевидно. Начать с образа жизни. «Пространственный мир» Сталина того времени был четко очерчен: кабинет в Кремле, «ближняя дача» в Кунцеве, квартира в Кремле (здесь он почти не бывал). Город Москва уже многие годы существовал для него лишь как фон проезда на бронированном «Паккарде». Все последние выступления перед аудиторией совершались тоже в Кремле; лишь иногда он выезжал в Большой театр в свою ложу — слева от сцены, наглухо отделенную от фойе и коридоров. Также ограничен был круг лиц, с которыми он общался: Берия («Лаврентий»), Молотов («наш Вячеслав»), Каганович, Микоян, Жданов. Военное руководство шло во «втором эшелоне» — раньше Ворошилов, в 1941 году Тимошенко, Жуков. В этом узком кругу и преимущественно за обедом или ужином решались важнейшие дела.
Даже те, кого вызывали к Сталину на прием, не могли рассказать ему, что происходило в мире вне Кремля, — физически из-за краткости аудиенций, психологически — из-за страха. О «загранице» Сталину вообще некому было рассказать — послов он не принимал, советских дипломатов — тоже. Молотов — заграницы не знал. Следовательно, оставались бумаги, донесения агентуры (отобранные!), доклады полпредств. Газет иностранных он, разумеется, не читал (не мог), пользовался выжимками, сообщаемыми в специальном вестнике ТАСС.
Так возникал и развивался по собственным законам особый мир, в котором Сталин соотносил все только с самим же Сталиным. Если учесть специфически-прямолинейный склад ума, воспитанного в традициях Тифлисской православной семинарии, и сложившуюся убежденность в собственной непогрешимости, то этот мир не нуждался в специальных поисках фактов, в критическом их изучении. Фактов же в голове Сталина накапливалось колоссальное количество, чем он поражал и даже потрясал своих собеседников.
Вот почему бессмысленно спрашивать себя: Сталин делал то и то, но разве он не знал, что такого-то вообще не существовало. Или: он не разрешал мобилизацию, разве он не видел немецкого сосредоточения? Такие вопросы просто бессмысленны.
Как выглядела в глазах Сталина бушевавшая вокруг Советского Союза война? Был ли он удовлетворен складывавшейся ситуацией? Существует концепция, согласно которой Сталин вплоть до 40-х годов оставался приверженцем идеи мировой революции и видел себя сначала хранителем, а затем носителем этой всесокрушающей идеи. Но Сталин конца 30-х годов уже не был Сталиным годов 20-х, то есть тем, кто осуществлял принцип «несения революции на штыках» в Польшу. Став преемником Ленина, он видел свою главную задачу во внутренней, пускай и насильственной консолидации общественного строя, а задачи внешние для него становились побочными, подчиненными. Кстати, и немецкие наблюдатели — тот же граф Шуленбург, его военный атташе Густав Кестринг и с ними Густав Хильгер — с удивлением констатировали поворот коммунистической партии и самого Сталина от экспансионистских всемирно-революционных лозунгов к лозунгам чисто имперским, «отечественным». Эта оценка была воспринята и самим фюрером, не раз говорившим о «новом облике» советского вождя.