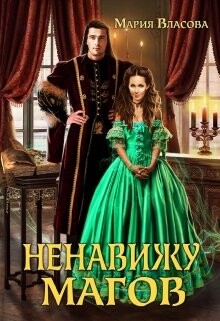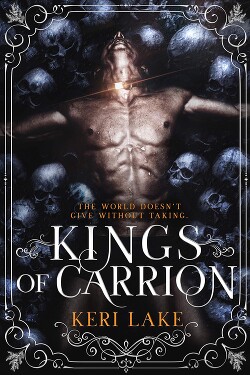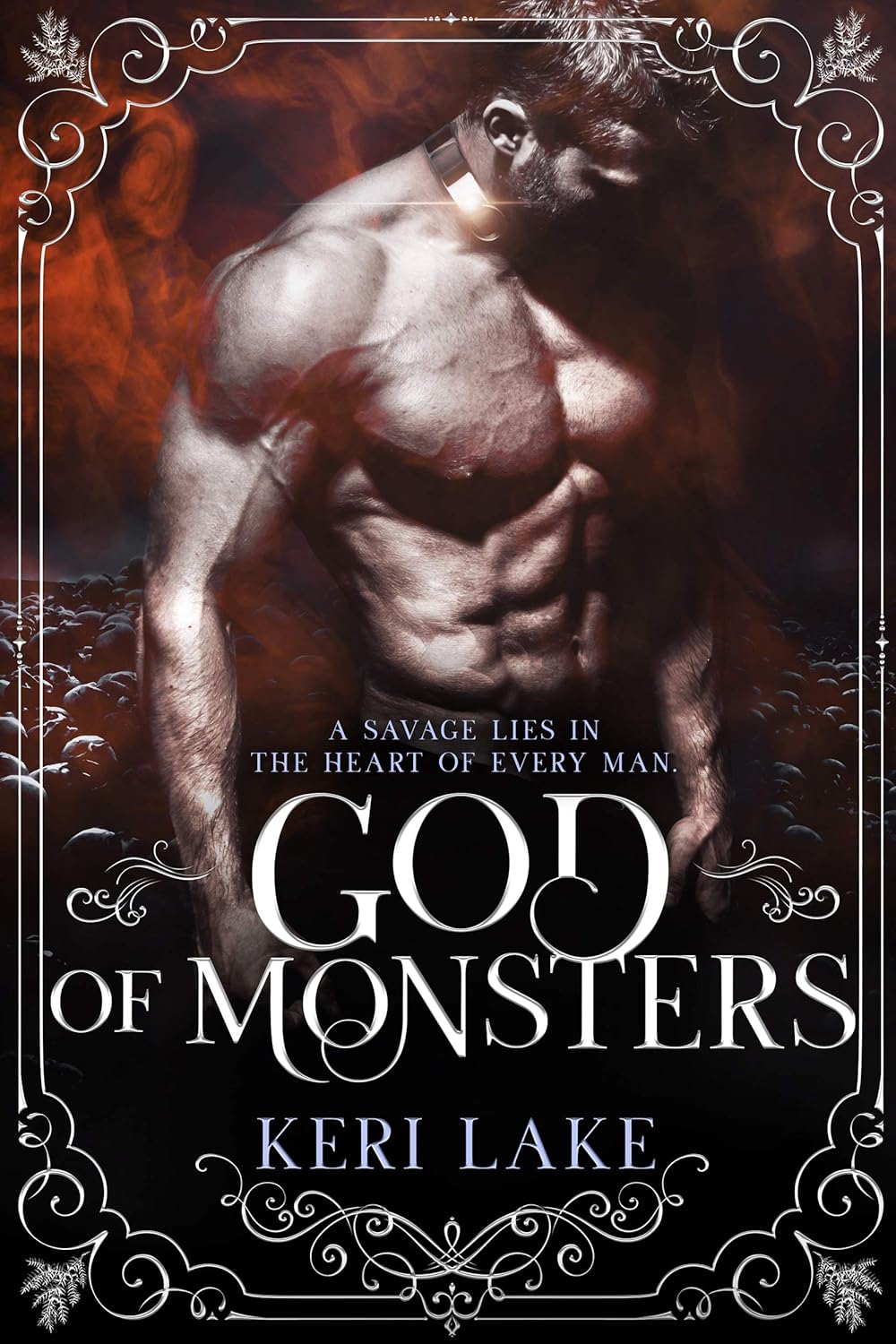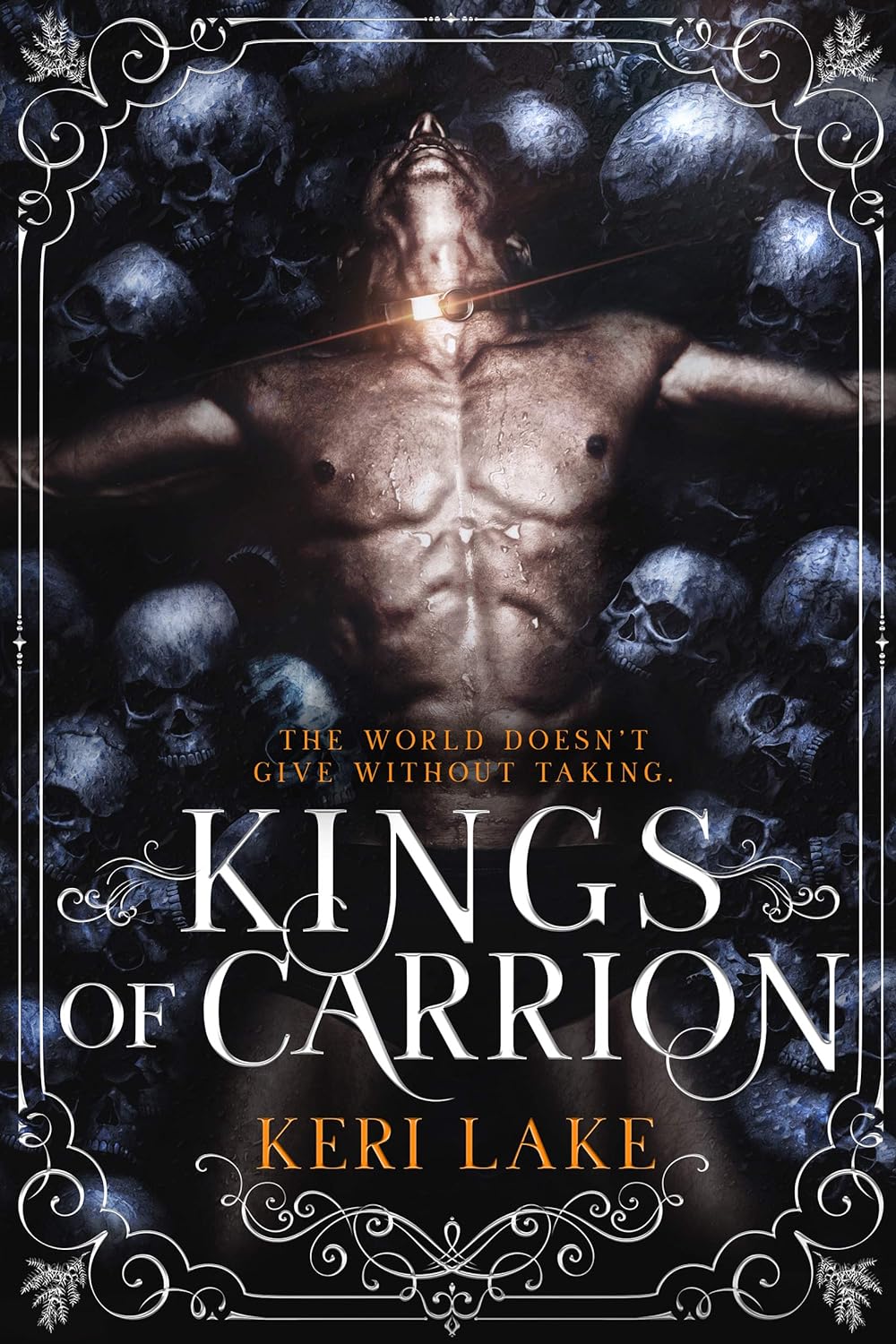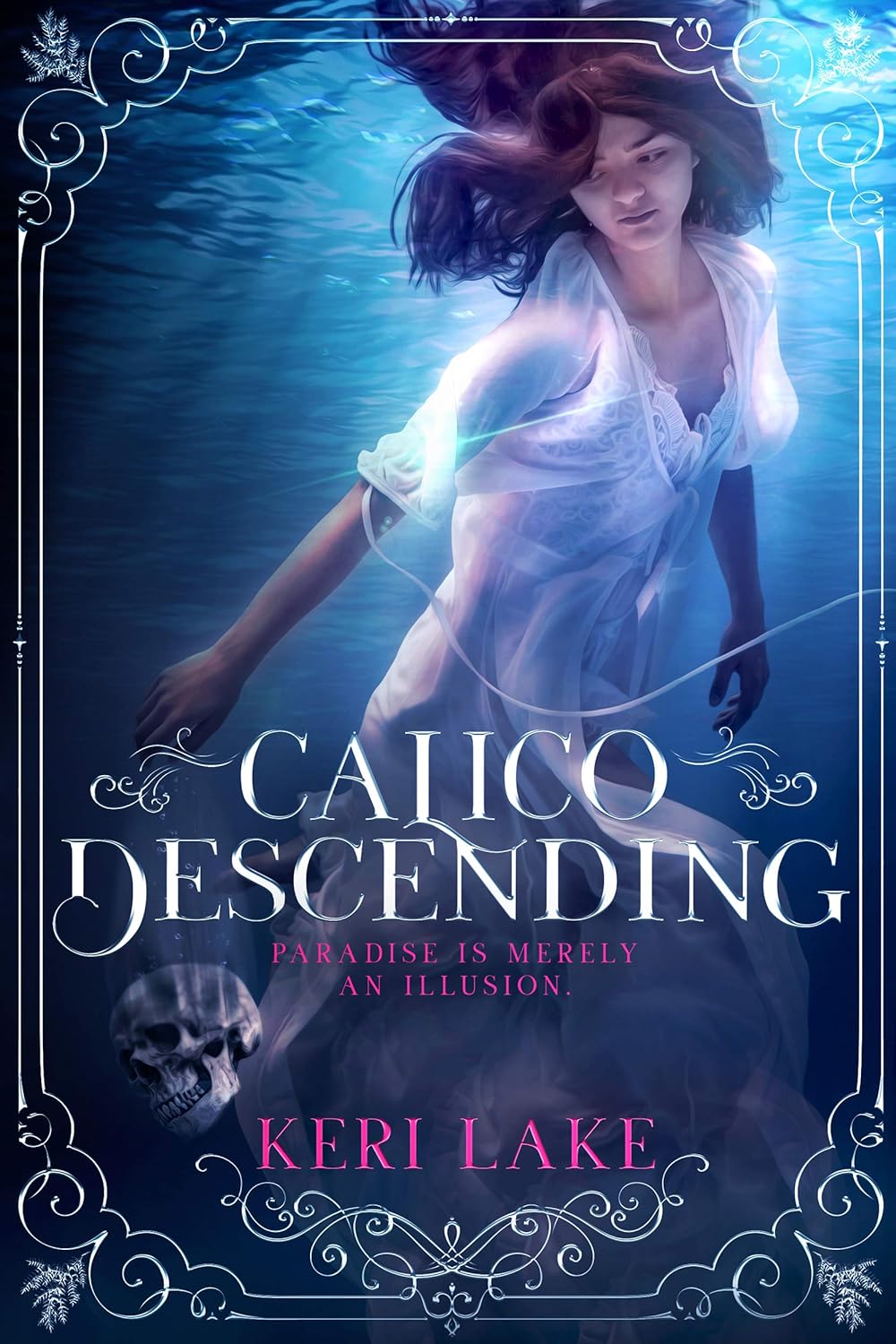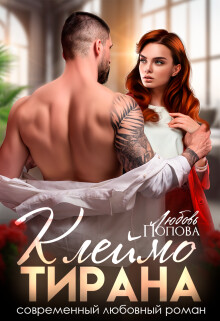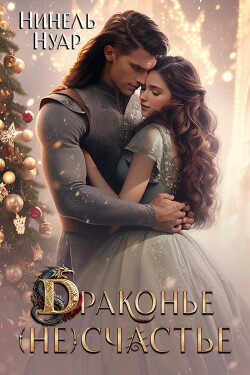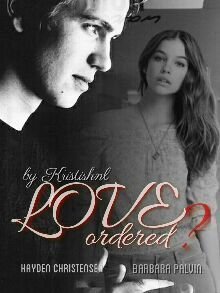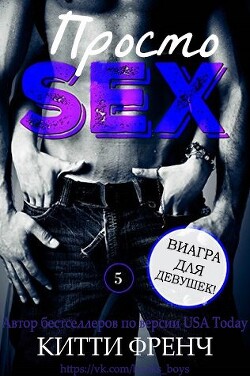Соломон Воложин - О сколько нам открытий чудных..

Помощь проекту
О сколько нам открытий чудных.. читать книгу онлайн
А смысл экзистенциализма, если одним словом, — это неустойчивость. А если несколькими словами, — это бесконечность самоотрицания неудовлетворенного сознания, состоящего из экзистенциалов (ne`gativites): отсутствия, неприязни, отвращения, сожаления, рассеянности, тревоги, беспокойства и т. д. Диалектикой называют это экзистенциалисты. (И даже неэкзистенциалисты признают, что в этом что–то есть, а именно: сознание действительно является источником субъективной диалектики.) А экзистенциалисты напирают: единственным очагом и сферой осуществления диалектики является не сознание вообще, а мое сознание, я как для–себя–бытие.
И тут вплотную мы подходим к сердцевине экзистенциализма, по крайней мере — французского, сартровского. (Сартра никак нельзя миновать в «Смутной улыбке», не зря он упомянут у Саган:
«Это была замечательная книга Сартра — «Время разума». Я с радостью накинулась на нее. Я была молода, один мужчина мне нравился, другой меня любил. Мне предстояло решить одну из глупых, маленьких девичьих проблем; я раздувалась от гордости. Мужчина даже был женат, и, значит, существовала другая женщина, и мы разыгрывали наш квартет, запутавшись в парижской весне. Из всего этого я составила прекрасное, четкое уравнение, циничное, лучше некуда. К тому же я поразительно хорошо чувствовала себя в своей шкуре. Я принимала и грусть, и нерешенные проблемы…»)
И сердцевина сартровского экзистенциализма — философия свободы.
Свобода — в выборе своего отношения к данной ситуации, а не в выборе реальных возможностей. Сам выбор цели достаточен для утверждения свободы, и нет нужды в самом достижении цели. Свобода при этом превращается в необходимость (может, с чьей–то точки зрения и в мучительную необходимость). Свобода неотъемлема от сознания. Человек несвободен от своей свободы. Человек <<осужден быть свободным>> (Сартр). И по отношению к зависимости у человека всегда есть выбор из двух: 1) примирения и 2) восстания.
И все это есть отражение глобальной неустойчивости, и все это есть выражение внутренней неустойчивости, колебаний и зигзагов в поведении и уж, во всяком случае, в мыслях, в чувствах и в подсознательных переживаниях. И отсюда — колоссальная наблюдательность и психологическое мастерство писателей–экзистенциалистов.
Цитировавшийся уже эпиграф поэтому имеет и другой смысл: весь роман — ему противоположен, любовь можно–таки описать, если за дело возьмется не ученый, а художник–экзистенциалист, мастер по неустойчивости.
И теперь можно вернуться к вопросу, себя выразила Саган в романе, свою подругу или своего врага.
Все наоборот
2
Бахтин свой второй вариант отклонения от гармонии отношений героя и автора, — когда для автора очень небезразличны ценности героя, — назвал, в частности, романтическим вариантом. Тогда, в 20‑х годах, еще не существовал экзистенциализм со своей квинтэссенцией — неустойчивостью. И романтического героя, — помните? — Бахтин назвал преодолевающим рефлекс автора, введенный в самопереживание героя же. Коротко Бахтин это назвал термином «бесконечный герой романтизма».
Этот бесконечный герой романтизма не настолько все же просквожен неустойчивостью, как бесконечный герой экзистенциализма.
Поэтому если автор, скажем, Франсуаза Саган, не будучи экзистенциалисткой сама, вздумала в романе «Смутная улыбка» дать главному герою, Доминике, сыграть роль осмысливающей себя как неустойчивую, как экзистенциалистку, — то может ли Саган, уверенно завершая Доминику как неустойчивую не сделать ту бесконечной героиней, все время колеблющейся? — Не может не сделать. Делает. И входит тем самым в противоречие с заявлением Бахтина, что герой–роль отличатся от героя бесконечного.
Если сама роль есть роль под названием «герой бесконечен», то и не будет здесь отличия 3‑го варианта бахтинского от 2‑го.
Еще о герое 3‑го варианта Бахтин (а я на Бахтина молюсь) пишет, что тот самодоволен и уверенно завершен.
Так если Франсуаза Саган чуть не на каждой странице свою Доминику завершает как бесконечно колеблющуюся между нравственностью и безнравственностью, то можно это почесть за уверенное завершение? — Думаю, да.
Точно так же, думаю, можно ответить и насчет самодовольства Доминики.
«Он [Люк] с нежностью смотрел на Франсуазу. Я смотрела на него. Я не помню, о чем мы говорили. Особенно много говорили Бертран и Франсуаза. Надо сказать, я не могу без ужаса вспоминать всю эту преамбулу. [Преамбулу адюльтера. В эту секунду нанесения на бумагу своего жизне–, вернее, душеописания Доминика нравственна.] В тот момент было достаточно проявить хоть немного осторожности, замкнуться — и я бы ускользнула от него. Зато мне не терпится дойти до того первого раза, когда я была счастлива с ним. Одна мысль, что я опишу эти первые мгновения, вдохну жизнь в слова, наполняет меня радостью горькой и нетерпеливой».
Сравните это с презираемыми Доминикой рассказами Катрин о своих любовях, и вы согласитесь, что «писательница» Доминика, не менее чем через три четверти года (как это следует из сюжета) помнящая мельчайшие извивы своих переживаний и столь мастерски, как это мы читаем, передавшая их нам, — вы согласитесь, что Доминика самодовольна: у нее получается играть роль своего автора–якобы–экзистенциалиста.
Эпиграф, — я еще раз повторю, — тоже работает на это самодовольство героя: они противоположны по достижениям. Героиня–писательница Доминика бесконечно выше Роже Вайана.
Очень показательно и название романа — «Смутная улыбка» — воплощенное противоречие, неустойчивость, межеумочность.
Таков же и конец. Звонок–то Люка Доминике был договор о новой встрече. И Доминика отвечала: «Да, да». И то, что роман кончается на ее переживании своего одиночества (следовательно, на нравственном моменте), ничего, строго говоря, не значит. Это все — уверенное завершение Франсуазой Саган Доминики как воплощения неустойчивости, экзистенцализма.
_Итого: гора родила мышь.
Я не берусь судить, явилась ли Франсуаза Саган прототипом Доминики и была ли Саган в 1956 году экзистенциалисткой.
И все–таки
Зато Франсуаза Саган помогла лучше понять пушкинского «Евгения Онегина», его Татьяну, пассивную демонистку.
Кем бы ни была Саган как автор–человек, как автор–творец она явно близка экзистенциализму и своей героине. А Пушкин от Татьяны далек. И не потому, что он мужчина, а Татьяна женщина. А потому, что Татьяна — почти трагическая фигура. Она в сущности отказалась от жизни. И — еще до того, как отказалась от домогавшегося ее Онегина.
А мне, Онегин, пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Мои успехи в вихре света,
Мой модный дом и вечера,
Что в них?
Потому ее отказ от Онегина есть не высокоморальности проявление, а давнего пассивного демонизма. То, что Татьяна хочет, есть бегство от общества — в деревню, на кладбище, к могиле няни. Одиночество ее положительный идеал. Он некоторым образом внеобщественен и повторяется в веках: в сентиментализме, в романтизме, в экзистенциализме.
Татьяна, конечно, полюс постоянства по сравнению с Доминикой, полюсом неустойчивости. Но по большому счету обе они — разочарованные в жизни: одна — романтик, другая — экзистенциалист. А Пушкин — реалист. И пусть не смущают его прямые слова: «Татьяны милый идеал». Идеал автора литературного произведения нельзя процитировать.
Идеал Пушкина в романе «Евгений Онегин» таков: не устроена жизнь, да; но ничего. Пушкин в этом произведении не трагичен. И с этим согласится каждый.
Мне случилось слышать одно анекдотическое подтверждение такому всеобщему — оптимистическому — переживанию романа.
Толкователь был верующий иудей. Он сказал мне, что Пушкин получил посвящение свыше, когда жил в Одессе. — Как?! — воскликнул я. Оказывается, почти в то же время Одессу посетил какой–то значительный иудаистский деятель, когда совершал свое паломничество к святым местам в Палестину. И такое сближение по месту и времени великого учителя иудаизма и будущего великого поэта не могло, мол, быть случайным. Это Божественное проявление. И великий еврей каким–то образом помазал на величие данного русского, Пушкина. И есть отражение этого в финале «Евгения Онегина», самого великого произведения поэта.
Засим расстанемся, прости! [читатель]
Прости ж и ты, мой спутник странный…
«Кто этот «спутник странный»!? — вдохновенно спросил меня верующий иудей. — Это…» И он назвал какое–то еврейское имя. «С Онегиным автор попрощался в предпредыдущей строфе, с читателем — в предыдущей. А здесь — с ним».