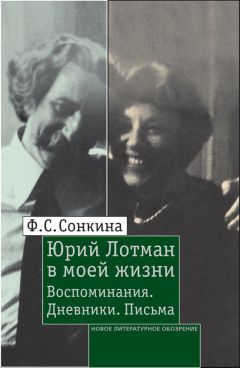Соломон Воложин - О сколько нам открытий чудных..

Помощь проекту
О сколько нам открытий чудных.. читать книгу онлайн
И Пушкин поверил было, что новый российский царь, Николай I, это новый Петр I и что он продолжит реформы Петра и приблизит Россию к Европе, где много где уже были конституции и не было крепостничества. И Николай I, взойдя на трон, дал–таки повод думать о себе хорошо. Например, он учредил комитет, который должен был заняться вопросом о положении крестьян. И можно было поверить, что ведущая роль, какую Россия приобрела в Европе после победы над Наполеоном, из реакционной превратится во что–то приемлемое. И тогда вообще продолжилась бы традиция самого счастливого, как выразился Губер, столетия для России‑XVIII-го. Пушкин и был по его мнению последним и самым ярким выразителем той, счастливой России. И в этом свете и явилась миру поэма «Полтава», в которой Петр I выводился прославившим себя в веках именно потому, что целиком отдал себя Истории, а История улыбалась России.
И как враги Николая I были, получается, романтики — декабристы, частью повешенные, частью сосланные в Сибирь, так индивидуалистами (людьми, приверженными своим страстям) представились не только враги Петра I, Мазепа и его сторонники, но и охваченный ненавистью Кочубей и даже кроткий агнец Искра. И все они — с точки зрения, вынесенной в «Полтаве», через сто лет вперед — оказались в забвении. «И что ж осталось От сильных, гордых сих мужей, Столь полных волею страстей? Их поколенье миновалось — И с ним исчез кровавый след Усилий, бедствий и побед… Забыт Мазепа с давних пор… Но дочь преступница… преданья Об ней молчат».
Пушкин испытывал моральный дискомфорт оттого, что изменил свой идеал и как бы предал своих друзей декабристов. Он не мог обрушиваться на национально–освободительные (Испании против Франции, Италии против Австрии, Молдавии против Турции) и антифеодальные движения 20‑х годов, которым он сочувствовал, и горечь от поражения которых была еще свежа. А в Украине в XIX веке национально–освободительного движения против России не было. И всю мощь антиромантического пафоса он обрушил на Мазепу, сделав того абсолютным злодеем в романтическом духе.
А чтоб ему (в том числе и этот занос) простили он снабдил поэму примечаниями. И там есть одно, в котором говорится о том, что Мазепа был поэт, что одна его патриотическая дума «замечательна не только в историческом отношении».
Пушкин и перед декабристами своеобразно извинился, предпослав поэме посвящение, которое в книжной публикации не имело номеров страниц, какие были для остальной поэмы. Этого тогда не поняли. Только сейчас ясно, что посвящение обращено к Марии Волконской, уехавшей к мужу–декабристу в Сибирь. И мы не осуждаем Пушкина за то, что он отказался от романтизма и перешел к реализму.
Может, не осудим его и за то, что он применил своеобразный образ Мазепы в этой борьбе?
Попытка 2‑я: кто старое помянет…
Попытка 3‑я: бойтесь данайцев, дары приносящих
Пушкин недолго пробыл в покорной, так сказать, фазе историзма. Он даже стал историком (в «Истории Пугачева»), чтобы историей управлять, а не только ей подчиняться. Если верить Марине Цветаевой, народ не сложил песен про Пугачева. Народ был прав: слишком мрачная это была фигура, как показало исследование Пушкина. И слишком неутешительные должны были бы получиться выводы, если б просто подчиниться открытию причин народного восстания, возглавленного Пугачевым. Причины эти были — непримиримые классовые интересы сословий дворян и крестьян (Пушкин, правда, термин «классовые» не применил, но суть–то узрел). А он бы хотел консенсуса в сословном обществе. И обольщаться, уж в который раз, тоже не хотел. Вот он в «Капитанской дочке» историю фантастической доброты и Пугачева, и Екатерины II к главному герою, Гриневу, и поручил изложить этому довольно недалекому человеку — Гриневу. Он «произнес» свою мечту о консенсусе, и в то же время его нельзя назвать утопистом.
Те, кто скажет, что Россия всегда опасна, особенно для соседей, потому хотя бы, что все еще слишком велика и потому что народ ее все еще привержен к глобальному самосознанию, те будут нынче не правы. Не правы потому, что нынче весь мир, включая и Россию, и Украину, стоит перед вызовом Истории в лице, так сказать, США подчиниться глобализации экономики. А за экономикой американизируются и народы Земли. Вот откуда теперь исходит угроза украинской самобытности, а не от России. И, может, стоит у Пушкина поучиться тому, как под конец жизни он бросил вызов Истории?
Написано в мае 2000 г.
Опубликовано 14 февраля 2001 г. в одесской газете «Правое дело»
О художественном смысле пушкинского «Демона»
…каждая мысль… страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью… а чем–то другим… для критики искусства нужны люди, которые… руководили бы читателей в том бесчисленном лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства…
Л. ТолстойВы знаете, что художественный смысл произведения я ищу между строк, отталкиваясь от его противоречивых элементов, то есть в соответствии с принципом художественности по Выготскому. Этот принцип мало кто применяет, и поэтому я заинтересовался, когда увидел у Лакшина нечто похожее в отношении пушкинского «Демона».
<<«Злобный гений», «тайный яд», «неистощимая клевета» — вот какие слова находит… Пушкин… Поэт будто останавливается на пороге нового сознания. Демон еще сохраняет могущественную власть над его душою, но злая природа этой силы уже осознана автором, и он готовится стряхнуть с себя его чары… И лучшее тому доказательство, что все это выговорилось в стихах, закреплено, отлито в слове, стало предметом созерцания со стороны и, значит, преодолено>> [3, 143].
А теперь подумаем: раз преодолено, то для автора демон — гений не злобный, тайные приемы того — не яд, неистощима — не клевета. Так?
Логически — да. А по сути — нет. Потому что Лакшин понимает «Демона» как отталкивание от предшествующего варианта:
Мое беспечное незнанье
Лукавый демон возмутил,
И он мое существованье
С своим навек соединил.
Я стал взирать его глазами,
Мне жизни дался бедный клад,
С его неясными словами
Моя душа звучала в лад.
Взглянул на мир я взором ясным
И изумился в тишине;
Ужели он казался мне
Столь величавым и прекрасным?
Чего, мечтатель молодой,
Ты в нем искал, к чему стремился,
Кого восторженной душой
Боготворить не устыдился?
И взор я бросил на людей,
Увидел их надменных, низких,
Жестоких ветреных судей,
Глупцов, всегда злодейству близких.
Пред боязливой их толпой,
Жестокой суетной, холодной,
Смешон глас правды благородной,
Напрасен опыт вековой.
Здесь мир отвергается, а демон полностью приемлется лирическим героем. И относительно этого «Демона» канонический вариант действительно является шагом от экстремизма. Но, зато, оказывается, что и противоречия никакого Лакшин в каноническом варианте не выявил: по Лакшину, хорош — юный идеализм, плох — демонизм. А мне лишь показалось, что критик выявил столкновение противоположного.
Однако, вдумавшись, я противоречие все же обнаружил. Оно состоит в прошедшем времени происходящего, с одной стороны, и в колоссальном накале эмоций, с другой. (Ведь если плохое — в прошлом, то можно бы сейчас и не волноваться. Да?)
Это прошедшее время не просто грамматическое. Речь идет о давних годах: «В те дни, когда мне были новы / Все впечатленья бытия». Речь идет о лицейском времени: «И взоры дев, и шум дубровы ” — это о Наташе Кочубей, о Кате Бакуниной, о царскосельском парке, где «ночью пенье соловья», если уж подходить биографически. «Когда возвышенные чувства, / Свобода, слава и любовь» — это об освободительной войне против Наполеона и о связанной со всенародным патриотическим подъемом в этой войне надежде на конституцию и освобождение крестьян от крепостничества, а также о гармонирующих с этими высокими переживаниями первых нешуточных любовях к упомянутым ровесницам и ровням по образованию и культуре (если опять — биографически). И тогда «вдохновенные искусства», что «Так сильно волновали кровь», — это первые продекабристские стихотворения, вроде «Воспоминаний в Царском Селе», «Лицинию», а не стихотворения предшествующего им периода, когда Пушкин, пробуя силы, — совсем, как оказалось, немалые, — иронизировал то над «легкой поэзией», то над «оссианизмом», то над сентименталистской — надо всем [1, 55].
Впрочем, биографический подход, как всегда, мелок. В первой части стихотворения просто мало глаголов, и я обратил повышенное внимание на ассоциации, заданные тональностью первых двух строк: «В те дни, когда мне были новы / Все впечатленья бытия». Биографический подход (несчастные любови и связанный с ними элегический период, а может, и творческий кризис, заявленный в тогдашних элегиях) не объяснит, что именно «Тогда какой–то злобный гений / Стал тайно навещать» лирического героя. Чувство повсеместного краха охватило Пушкина после второго продекабристского периода, с его знаковыми стихотворениями, такими, как «К Чаадаеву», «Вольность», из–за которой его сослали, когда ее стали применять в качестве агитки, казалось бы, друзья–вольнолюбцы. Страшный любовный удар, по Губеру, тогда же он получил от Натальи Кочубей, в которую в то время вторично и очень глубоко, но несчастливо, влюбился. Оклеветал товарищ (Толстой). Все обрушилось. Случился второй творческий кризис. Но и эти биографизмы, строго говоря, не проходят для иллюстрации строк «Демона». Не проходят потому, что в жизни Пушкина тогда удары на него посыпались извне, а «Демон» описывает внутреннюю драму: «Часы надежд и наслаждений / Тоской внезапной осеня, / Тогда какой–то злобный гений / Стал тайно навещать меня».