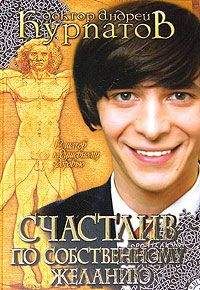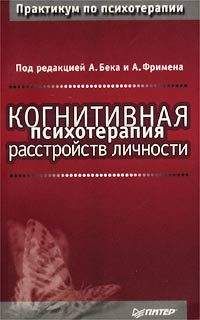Геннадий Аверьянов - Руководство по системной поведенченской психотерапии
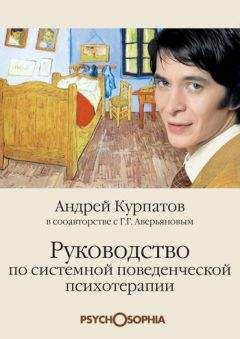
Помощь проекту
Руководство по системной поведенченской психотерапии читать книгу онлайн
Впрочем, если несколько сместить угол обзора, то нетрудно заметить, что, например, медицина не является областью чистой науки, это сфера практического опыта, где используются, преломляясь, данные, полученные в разного рода исследованиях. Целостность и непротиворечивость медицинской науки обеспечена целостностью, объективностью, верифицируемостью ее объекта, которым здесь является организм человека, а также наличием очевидных примеров эффективного использования средств диагностики и лечения соматических болезней, что в совокупности и обеспечивает адекватное представление врача о том, что и как он делает.
И надо признать, что такого «целостного, объективного и верифицируемого объекта исследования» у психотерапии нет, что, конечно, не означает, что этого «объекта» нет вовсе. Но если его не видят, то уже не имеет принципиального значения – есть он или его нет. Представленные только что «траектории разлета» на ниве психотерапии очевидно доказывают, что желаемого видения здесь нет, а потому и психотерапия фактически находится лишь в стадии своего зарождения. Ссылаться же на роль «художника», полагать психотерапию «искусством» может лишь тот, чьи «художественные творения» покупают, но и с этим в психотерапии год от года все хуже. И, разумеется, при такой постановке вопроса психотерапевтам нужно оставить всякие идеи о научности собственной деятельности.
Наука же может быть творчеством, если она не ставит перед собой никакой практической задачи (что, впрочем, не означает, что в этом случае она не имеет цели). Если же психотерапия все-таки какие-то задачи перед собой ставит, желает произвести на свет «ликвидный продукт», обеспечить какую-то важную и насущную социальную (в широком смысле) функцию, то ей необходимо помнить: наука – это средство обеспечения ремесла. Врач же отличается от любого ремесленника только сложностью и капризностью своего материала. И ремесленника по большому счету можно считать ученым. При этом видеть недостатки технологии и совершенствовать производство – значит быть хорошим ремесленником, то есть Мастером, именно этот статус, а не пространная роль «Художника в Искусстве» и должен прельщать психотерапевта. Психотерапию следует рассматривать прежде всего как сферу практического опыта, а КМ СПП служит тому, чтобы обобщать, представлять и совершенствовать этот опыт.
Действительной трудностью психотерапии (как науки, если все же рассматривать ее в этом ключе) является отсутствие у специалистов такого представления о психике («организме» в медицине), ее страдании («болезнь» в медицине) и средствах его ликвидации («лечение» в медицине), которое было бы системным и сквозным, то есть проходящим через все эти три перечисленных пункта. Именно эту задачу и призвана решить КМ СПП.
2. Предмет психотерапии
Методологические подходы, традиционно используемые при теоретическом обобщении психотерапевтического опыта, не являются в полном смысле методологическими, в большинстве случаев это методические формы, основывающие свою развертку на том или ином допущении.[21] Подобные допущения могут показаться достоверными лишь при поверхностном анализе. Наличие совокупности фактов, отобранных заинтересованным наблюдателем, фактов, которым приписывается качество «следствий», якобы подтверждающих существование предполагаемой субстанции, равно как и эффективность тех или иных методов, основывающихся на определенной гипотезе, ничего не доказывает134. По частному факту нельзя судить о целом, наличие факта ничего не говорит о его генезе, а доказательство опытом подтверждает лишь воспроизводимость этого опыта, но не концепцию причинно-следственных связей, созревших в умах теоретиков.
В психотерапии, как и в молекулярной физике, возникает проблема изучения объекта, определяемого и как субстанция (структура психического – корпускула), и как процесс (функционирование психического – волна). Впрочем, даже методологические допущения, сделанные в молекулярной физике (принцип дополнительности Н. Бора[22] и принцип неопределенности В. Гейзенберга[23]), для психотерапии оказываются недостаточными. Психотерапия имеет дело как минимум с двумя процессами – с процессом собственного функционирования психического и с процессом взаимодействия психического пациента с психотерапевтической ситуацией, то есть с ситуацией, когда психический аппарат не может ориентироваться только на себя самого. И если психология может осуществить методологическую поправку наподобие принципа дополнительности Н. Бора135, то для психотерапии подобная операция оказывается уже невозможной. Аналогичная ситуация складывается и в отношении возможности методологической поправки, подобной принципу неопределенности В. Гейзенберга: для психологии она вполне приемлема, хотя и понижает достоверность знания, но для психотерапии она не подходит совершенно по той же самой причине, что и принцип дополнительности136.
Оба упомянутых принципа, изъятые нами из теории квантовой механики, по сути определяют ограниченность возможностей исследователя, который имеет дело с открытой системой137. Но в случае психотерапии мы не только ограничены в возможностях изучения предмета, но в каком-то смысле лишены самого этого предмета, по крайней мере в привычном понимании этого слова – «предмет». Мы оказываемся в данном случае отнюдь не в положении физика-исследователя, которому надлежит рассчитать поведение частицы, ее параметры и условия эксперимента (исследовательской модели и т. п.); в случае психотерапии мы вынуждены изучать систему, как если бы мы были теми, кто рассматривает ситуацию эксперимента из третьей точки. То есть мы с необходимостью должны принять во внимание психический аппарат пациента (параметры частицы), поведение этого аппарата в его данности (собственное поведение частицы),[24] поведение этого поведения в данности терапевтической ситуации (поведение частицы в условиях эксперимента)[25] и, наконец, саму терапевтическую ситуацию (поведение этого двоякого поведения для экспериментатора, дополняющего результаты эксперимента своей сознательной и неосознанной деятельностью).[26] И это при том, что самих себя как исследователей этой конструкции мы в данном случае должны принять за «чистую субстанцию», не вносящую никаких искажений в изучаемый объект, то есть за чистый лист бумаги, абсолютно белый экран! Здесь, как сказал бы Илья Пригожин, мы оперируем уже не с «амплитудами волн вероятности», а «непосредственно с вероятностями»138.
Б.Ф. Скиннер в свое время придумал чрезвычайно меткое выражение для обозначения психического: «черный ящик»139, оно как нельзя лучше коннотирует с понятием безответного «абсолютно черного тела» физика, использующего для демонстрации этого «тела» в буквальном смысле черный ящик. Но если просматривающаяся аналогия весьма и весьма емко отражает положение дел в психологии, то для того чтобы адаптировать эту аналогию к психотерапии, нам бы пришлось сказать, что это не только «абсолютно черное тело» физика, но одновременно еще и не менее «черный ящик» заправского фокусника – «ящик», за одной из стенок которого скрывается кролик. Разумеется, физик проглядит, а фокусник обманет, так что трудность нашей ситуации вполне очевидна.
Впрочем, у психотерапии, разумеется, есть свой предмет, поскольку, хотя собственно психотерапевтический феномен (при строгом аналитическом подходе) и представляется не вполне достоверным, мы – психотерапевты – все-таки чем-то занимаемся. Другое дело, что предмет этот не может быть определен формально-логически,[27] в нашем случае ускользает не только структура предмета140, но и сам предмет. Сейчас, если мы продолжим упорствовать, настаивая на предоставлении нам гарантий абсолютной достоверности предмета психотерапии, то окажемся в незавидном положении М. Хайдеггера141, который пытается доказать самому себе, что сущее существует, – при том, что данный факт не нуждается в каких-либо дополнительных обоснованиях, кроме себя самого.[28]
Положение, в котором оказалась психотерапевтическая наука, незавидное, а потому было бы большой удачей иметь хоть какую-то определенность; в этой связи единственное допущение, которое КМ СПП позволяет себе сделать, принимая его за факт («элемент реальности», как сказал бы А. Эйнштейн), а не за «интеллектуальное приспособление», заключается в том, что психотерапия существует как явление и потому является предметом. Иными словами, КМ СПП допускает, что, постулируя существование психотерапии, мы находимся в поле реального, а не воображаемого. Впрочем, этого, как кажется на первый взгляд, малого факта (факта существования психотерапии как таковой) вполне достаточно для того, чтобы решить стоящие перед психотерапией задачи. Решать же вопросы психологии из психотерапии – абсурдно и бессмысленно, все равно что будучи Колумбом, пуститься в отчаянное путешествие через моря и в лучшем случае достичь «Индии», но никак не «Америки».