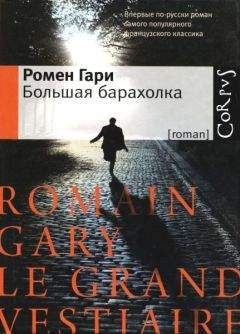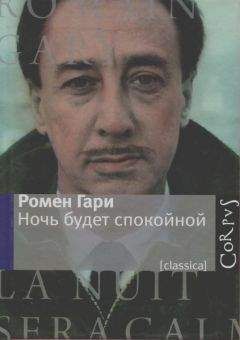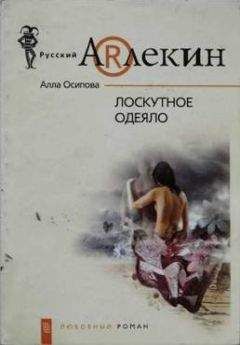Гари Маркус - Несовершенный человек. Случайность эволюции мозга и ее последствия.
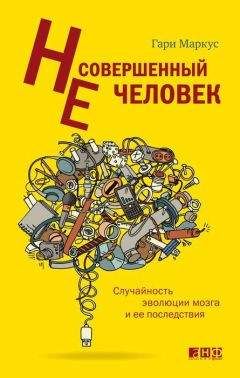
Помощь проекту
Несовершенный человек. Случайность эволюции мозга и ее последствия. читать книгу онлайн
Эффекту якоря уделяется большое внимание в психологической литературе, но это ни в коем случае не единственная иллюстрация того, как на убеждения и суждения могут влиять попутная и даже не имеющая отношения к делу информация. Возьмем другой пример. Люди, которых просили осторожно подержать между зубами ручку, не касаясь ее губами, оценивали карикатуры как более забавные, чем те, кто держал ручку со сжатыми губами. Почему так? Вы можете догадаться, если попробуете следовать этим инструкциям, глядя на себя в зеркало. Держите ручку между зубами «осторожно, не касаясь ее губами». Теперь посмотрите, какую форму принимает ваш рот. Вы увидите, что уголки губ подняты, как при улыбке. Так поднятые уголки губ благодаря механизму действия контекстуально зависимой памяти автоматически вызывают приятные мысли.
В аналогичной серии экспериментов испытуемых просили, используя недоминантную руку (левую для правшей), с максимально возможной скоростью написать имена знаменитостей, классифицируя их по категориям (нравится, не нравится, нейтральное отношение). Они должны были делать это: 1) либо нажимая на стол (сверху вниз) ладонью доминантной руки, 2) либо нажимая (снизу вверх) ладонью доминантной руки на обратную сторону столешницы. Люди, чья ладонь была обращена вверх, перечисляли больше имен положительных персонажей, а люди, чья ладонь была обращена вниз, вспомнили больше негативных. Почему? Сама поза человека с раскрытой ладонью подразумевает позитивный подход, в то как время ладонь, обращенная вниз, соответствует позе осторожности. Как показывают данные, такие легкие различия изо дня в день влияют на нашу память и в конечном счете на наши убеждения.
Другой источник контаминации связан со стереотипностью мышления, с человеческой склонностью считать хорошим то, что хорошо знакомо. Возьмем, например, любопытное явление, известное как эффект «простого знакомства»: если вы просите людей оценить вещи как китайские иероглифы, они склонны предпочесть те, что видели раньше, тем, которых не видели. Один мой коллега даже высказал крамольную мысль, что известные произведения живописи могут нравиться людям потому, что они знают их, наряду с тем, что они прекрасны.
С точки зрения наших предков, предпочтение знакомого могло иметь смысл; то, что знала еще прапрапрабабушка, и это не убило ее, вероятно, надежнее того, чего она не знала – и что могло ее убить. Предпочтение того, что испытано на практике, могло формироваться в ходе приспособления: те, кто выбирал все хорошо знакомое, могли иметь большее потомство, чем индивиды с чрезмерной предрасположенностью к новизне. Подобно этому наше стремление есть вкусную пищу, предположительно наиболее знакомую нам, вероятно, сильнее проявлялось в тяжелые времена; так что и здесь легко найти объяснение, связанное с приспособляемостью.
В отношении эстетики нет ничего плохого в предпочтении привычного – на самом деле не имеет значения, нравится мне этот китайский иероглиф или другой. Точно так же, если моя любовь к музыке диско 1970-х годов обязана скорее тому, что я знаю ее, а не музыкальному таланту Донны Саммер, ради бога.
Но наша приверженность знакомому может стать и проблемой, особенно когда мы не осознаем, до какой степени этот фактор влияет на наше предположительно рациональное принятие решений. На самом деле последствия могут быть значительными. Например, люди склонны предпочитать ту социальную политику, которая уже осуществляется, той, которая не проводится, даже если нет обоснованных данных, показывающих, что текущая политика эффективна. Вместо того чтобы анализировать преимущества и недостатки, люди часто используют принцип здравого смысла: «Раз это существует, значит, должно работать».
В одном недавнем исследовании высказано предположение, что люди поступают так, даже если понятия не имеют, какая политика на самом деле проводится. Группа израильских исследователей решила воспользоваться тем, что люди мало знают о многих указах и постановлениях. Настолько мало, что экспериментаторы легко заставили опрашиваемых поверить в любые предположения; так, исследователи проверили, насколько люди готовы принять на веру любую «правду», к которой их подводят. Например, их попросили оценить порядки, такие, например, как кормление бездомных кошек: хорошо это или неправомерно. Половине испытуемых экспериментатор объяснил, что кормление уличных кошек в настоящее время узаконено, а другой половине – что нет, а потом спрашивал людей, надо ли менять законодательство. Большинство благосклонно относились к существующей практике и готовы были найти множество доводов в пользу ее преимуществ над конкурирующей политикой. Похожие результаты исследователи обнаружили и в эксперименте с выдуманными правилами обучения декоративно-прикладному искусству. (Сколько часов обучения должна подразумевать эта программа – пять или семь? В настоящее время X.) Такая же приверженность знакомому характерна и для реальной жизни, когда ставки выше. Это объясняет, почему кандидаты, занимающие выборные должности на момент очередных выборов, всегда имеют преимущества. Известно, что даже недавно скончавшиеся публичные политики побеждали живых соперников.[17]
Чем больше угроз нас подстерегает, тем более мы склонны цепляться за то, что нам знакомо. Подумайте о тенденции питаться привычными продуктами. При прочих равных условиях в случае опасности люди склонны больше, чем обычно, держаться за своих близких, за свои корни, за свои ценности. Лабораторные исследования, например, показали: если людям поставить задачу вообразить собственную смерть («Напишите как можно подробнее, что, как вы думаете, может происходить с вами в случае вашей физической смерти…»), то они склонны более тепло, чем обычно, относиться к представителям своих религиозных и этнических групп, но более негативно к аутсайдерам. Страх смерти побуждает также поляризовать политические и религиозные убеждения: у патриотичных американцев, осознававших свою смертность, идея использовать американский флаг в качестве сита вызывает больший ужас (в сравнении с патриотами контрольной группы); убежденные христиане, которых просят поразмышлять на темы собственной смерти, проявляют меньшую терпимость, если кто-то пользуется распятием в качестве молотка. (Благотворители, обратите внимание: наши кошельки мы тоже открываем охотнее в тот момент, когда нам случается задуматься о смерти.) Другое исследование показало, что во времена кризисов все люди склонны становиться более нетерпимыми к национальным меньшинствам; как ни странно, это относится не только к представителям большинства, но и к самим меньшинствам.
Люди могут даже приветствовать или по крайней мере принимать системы правления, которые серьезно угрожают их собственным интересам. Как отмечал психолог Джон Джост: «Многие люди, которые жили во времена феодализма, крестовых походов, рабства, коммунизма, апартеида и Талибана, считали, что существующая система несовершенна, но морально оправданна и [в чем-то даже] лучше, чем альтернативы, которые они могут себе представить». Иначе говоря, ментальная контаминация – дело серьезное.
Каждый из этих примеров ментальной контаминации (иллюзия фокусирования, эффект ореола, эффект якоря и корректировки, эффект простого знакомства) подчеркивает важное различие, к которому мы будем постоянно возвращаться в этой книге. Наше мышление условно можно разделить на два потока: один – быстрый, автоматический, преимущественно бессознательный; а другой – медленный, целенаправленный, сознательный.
Первый поток, который я буду называть наследственной, атавистической или рефлексивной системой, действует стремительно, автоматически, при наличии или при отсутствии сознательной осведомленности. Второй поток я называю рассуждающей системой, поскольку она делает следующее: размышляет, рассматривает, обдумывает факты – и пытается (иногда успешно, иногда нет) спорить с ними.
Рефлексивная система, безусловно, старше и обнаруживается в той или иной форме практически во всех многоклеточных организмах. Она лежит в основе многих наших повседневных действий, например, мы автоматически ставим ногу выше или ниже в соответствии с рельефом местности, по которой идем, или мгновенно узнаем старого друга. Рассуждающая система, которая сознательно рассматривает логику наших целей и решений, гораздо новее, и обнаруживается у немногих видов, возможно, только у людей.
В лучшем случае мы можем сказать, что эти две системы опираются на достаточно разные мозговые субстраты. Некоторые рефлексивные системы зависят от старых с точки зрения эволюции систем мозга, таких как мозжечок, подкорковые нейронные узлы (связанные с контролем моторики) и миндалины (отвечающие за эмоции). Рассуждающая система между тем базируется, вероятно, преимущественно в переднем мозге, в предлобной части коры головного мозга, которая есть – хотя и намного меньше – и у других млекопитающих.