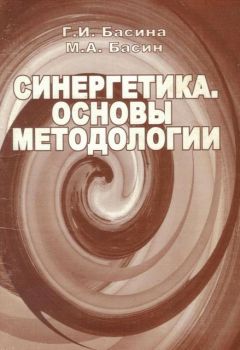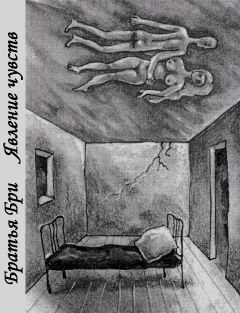Владимир Аршинов - Синергетика как феномен постнеклассической науки

Помощь проекту
Синергетика как феномен постнеклассической науки читать книгу онлайн
Ну а ссылки на гештальт-подход вводят в контекст всего рассмотрения свою родную «синергетическую динамику неоднозначности», коннотативность, умножаемость смыслов, множественность интерпретаций, нелинейность в противоположность единственности, линейности заданности смысла и т.д.
Тем самым в математический и естественнонаучный дискурс, считавшийся дотоле эталоном чистоты коммуникативного акта (Р.Барт) [174] вторгается вероятностный коннотативный шум, грозящий разрушить всю истиннонаучную коммуникацию в целом. Но это с точки зрения линейной классической науки. Для синергетики с ее открытиями странных аттракторов, детерминированного хаоса коннотативность, неоднозначность, метафоричность — не препятствие научному сообщению как тексту-посланию, а, в принципе, его необходимый составной элемент. Ведь в конце концов приемник этого сообщения, его реципиент, — это не просто регистрирующее автоматическое устройство, но ученый, личностно вовлеченный в тот же коммуникативный канал, что и отправитель сообщения.
Научный текст сближается с текстом литературным, в него входит, как говорят, «нарративный» элемент.
Здесь для меня предоставляется удобный случай проиллюстрировать специфику неоднозначности третьей позиции как фокусировку на границе контакта. В конце концов, одну из причин этой неоднозначности можно приписать тому, что с этой позиции междисциплинарная граница ненаблюдаема. Если, конечно, она будет строго статичной. Но вот как интерпретирует результат работы Тома «Топология и лингвистика» Ю.И.Манин. По его словам, этот результат состоит в обнаружении довольно скрытого, но тесного структурного параллелизма между фрагментами двух языков: «человеческого» языка обыденной жизни и языка ньютоновой механики в его крайне схематизированном и топологизированном варианте».
Далее идет любопытная интерпретация интерпретации. По словам Манина, «точка зрения самого Тома отличается от сформулированной выше подчеркиванием ассиметрии ситуации: для него язык ньютоновской механики служит вместилищем «смысла» (плана содержания) для человеческого языка (плана выражения). Это доставляет разительную параллель к так называемой «гипотезе Сепира-Уорфа» в этносемиотике, которая предполагает почти причинную связь между средствами выражения, скажем, индоевропейских языков, и той естественнонаучной картиной мира, наследниками и строителями которой мы являемся. Это обстоятельство делает возможным рассматривать статью Тома не только как результат, но и как интересный объект иссследования.»
В контексте множественности интерпретаций предложу и свою, вступив тем самым в заочный диалог с заинтересованными сторонами. Во-первых, сразу возникает искушение «параллелизм фрагментов двух языков», о котором говорит Манин, превратить в синергетическое кольцо, своего рода коммуникативный языковый гештальт, исторический, кросскультурный, лингвистический инвариант, глубинный паттерн, проявляющийся в наблюдаемых языковых паттернах индоевропейских языков и той естественнонаучной картиной мира, которая и сейчас существенным образом определяет наше мировоззрение.
В пользу такого предположения может свидетельствовать, например, необычайная устойчивость декартово-ньютоновой «парадигмы» в различных областях научного познания, например в медицине. И это при всем при том, что именно в медицине эта парадигма уже достаточна давно подвергается серьезной критике, причем критике не чисто апофатической, отрицательной, но достаточно, на мой взгляд, конструктивной.
Об этом будет говориться подробнее в разделе, посвященном третьей медицине. Но не только в медицине декартово-ньютонова парадигма подвергается сомнению [67]. Сомнение в ее претензиях на универсальность в культуре западноевропейской цивилизации высказывалось и в философии, причем это сомнение имеет по нашим временам уже вполне почтенный возраст, даже если это сомнение философское. Об этом смотри блестящую работу Рорти «Философия и зеркало природы», а также другие работы этого автора [134].
Но я веду свой разговор, обозначая и осознавая себя наблюдателем и по преимуществу в другом, из другого «автопоэйзиса». Это автопоэйзис по преимуществу естественнонаучного дискурса, естественнонаучных гештальтов, программ теорий, доктрин, парадигм, подходов и пр. Это и третий мир проблем Поппера, и мир личностного знания Поляни, и, одновременно сопряженный с этим миром, мир неявного, неявленного, молчаливого, невыговоренного, неартикулированного знания. Это молчаливое, неартикулированное знание всегда имеется в виду в качестве «имеющего место», присутствующего совместно в личностной позиции, как позиции «третьего пути», позиции «идущего человека». Человека, идущего вместе с другим, с другом. Человека, встречающегося с другим, готовым к такой встрече, готовым к событию. Молчаливое знание — это не иррациональное знание, и даже не а-рациональное знание. Это скорее знание в действии, знание, реализуемое в действии человека как мыслящего, ощущающего, чувствующего и переживающего существа. Это знание-навык, знание-умение, знание-мастерство, знание-искусство, а в науке это прежде всего знание как искусство познавать. Это знание организованно, точнее самоорганизованно в форме гештальта, гештальта открытого, незавершенного, стремящегося — иногда страстно и неудержимо — завершить себя, удовлетворить себя, что в ситуации познания (научного) есть стремление найти, обнаружить нечто неизвестное, непонятное, выполнить свою миссию, исполнить предназначение и т.д. Такого рода переживания незавершенности, стремления завершить, слиться, дополнить имеют свое выражение в области человеческой любви, ее переживания, переживания, которое охватывает широкую палитру действий, чувств, эротики слов, образов и ощущений, от экстаза в творчестве художника, поэта, музыканта, философа, нашедших ключ, испытывающих озарение, переключение гештальта «фон-фигура», инсайт, или еще то, что Маслоу назвал «пиковым опытом» [89]. Все это вместе можно еще было бы назвать опытом переживания тотальной захваченности процессом самоорганизации личности. Причем таким опытом, который преобразует личность. Это ответвление моего дискурса имеет отношение к образу встречи Поляни и Маслоу, как я ее вижу здесь и теперь.
Итак, взгляд на ньютонианскую лингвистику из моего автопоэйзиса. Вместе с Маниным. Напомню, что Манин видит в статье Тома «интересный», как он пишет, «объект исследования». Я не могу, однако, разделить эту позицию полностью, и не потому, что с ней как бы не согласен, а потому, что я не понимаю эту статью в ее собственно математических измерениях. То есть, я догадываюсь о намерениях Тома, поскольку соотношу его текст «Топология и лингвистика» с программой «На пути...». Но я очень мало знаком с остальными работами Тома. Тем не менее, чувство совместной разделяемости целого, паттернов общего гештальта, позволяет мне дальнейшие рассуждения некоторым телеологическим образом оправдать.
Дело в том, что для Тома ньютонова механика, представленная математически ее гамильтоновым формализмом, в виде системы уравнений, вполне допускает две крайние интерпретации: локально-причинную и телеологическую. Последняя кореллятивна ее формулировке в виде вариативного принципа наименьшего действия. Так что уже классическая, гамильтонова, механика вполне совместима с разными картинами мира: телеологической и локальной причинно-следственной. Поэтому когда Манин говорит, комментируя Тома и даже интерпретируя интерпретацию Тома, что модель Тома как бы обосновывает гипотезу лингвистической относительности Сепира-Уорфа о «причинной связи между средствами выражения и той естественнонаучной картиной мира, наследниками и строителями которой мы являемся», то я бы хотел возразить, что провозглашенным намерением Тома в тексте «Топология и лингвистика» было уйти от линейно-денотативной модели письма, как семиотической модели, в основе которой лежит модель языка Фердинанда де Соссюра, причем уйти в первую очередь от классического догмата Соссюра о «произвольности знака».
Знак вовсе не произволен, если посмотреть на него с позиции гештальт-подхода, то есть синергетической нелинейной целостности зрительного и символического, процессов, взаимосвязанных через обратимый, кольцевой процесс перевода (Веккер) [40,41].
Эта непроизвольность знака особенно отчетливо переживается в контесте религиозного дискурса. Религиозные тексты телеологичны дважды. И они тем более отвечают критерию быть религиозным текстом, письмом, чем более резонируют в них, сливаясь и отождествляясь до неразличимости, два личностных образа-гештальта: мой и Бога. Поэтому в религиозном тексте каждое слово, каждый знак — на своем месте. Отсюда становится понятной та удивительная устойчивость, всепоглощаемость хорошо выстроенного, когерентного самому себе религиозного дискурса, удивительное (если смотреть с внешней позиции сочувствующего наблюдателя) сочетание эмоционалъного и интеллектуального начал в нем.