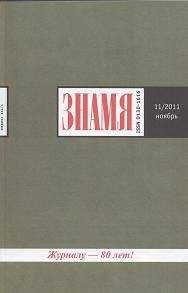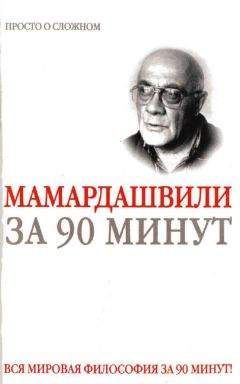Федор Василюк - Методологический анализ в психологии

Помощь проекту
Методологический анализ в психологии читать книгу онлайн
Такое понимание сознания в отличие от классической психологии сознания адекватно общей идее психотехники, поскольку изначально включает в свернутом виде всю молекулярную структуру этой идеи — «сознание — практика — культура».
Но почему же Л.С. Выготский не назвал свою теорию культурно-практической, хотя считал практику краеугольным камнем новой психологии, и почему не создал все-таки психотехнического подхода, хотя признавал за психотехникой величайшее методологическое значение?
Ответ на этот вопрос кроется в понимании второго узла категориальной структуры психотехники — узла практики.
Практика
У Л.С. Выготского было понятие «практической психологии», но не было еще понятия «психологическая практика». На первый взгляд, это синонимы, но по существу между ними пропасть, радикальный сдвиг, отделяющий две исторические эпохи в развитии психологии (ср. Пузырей, 1986).
Практическая психология — это приложение и развитие психологических знаний в какой-либо сфере общественной практики — педагогике, медицине, обороне и т. д. Виды практической психологии получают соответствующие ведомственные имена — педагогическая психология, медицинская, военная и т. д. Каждая разновидность практической психологии включает в себя частную прикладную психологическую теорию, реализующую общепсихологические принципы в материале данной сферы социальной практики и для решения ее задач.
Психологическая практика — это самостоятельная практическая деятельность психолога, где он выступает «ответственным производителем работ», непосредственно удовлетворяющим и обслуживающим социально оформленные жизненные потребности заказчика. Психологическая практика обслуживает «первичного потребителя», а не профессионала, представителя той или другой социальной сферы деятельности. Одно дело — консультирование пациента, обратившегося за психологической помощью, другое — консультирование того же пациента по заказу его лечащего врача. Хотя процессы могут быть очень похожи, но их внутренний смысл, форма осмысления результатов, сам способ мышления и типы отношений, складывающиеся в этих деятельностях, разительно отличаются друг от друга. Наиболее «чистыми» видами психологической практики являются индивидуальное и семейное консультирование и различного рода «личностные» психологические тренинги.
Вернемся к поставленному выше вопросу. Почему, в самом деле, Л.С. Выготский при всей гениальности ума, при всем ясном понимании, что психотехника является краеугольным камнем новой психологии, что только она может вывести психологию из кризиса, не создал все-таки полноценной психотехнической системы? Потому, что у него не только не было, но и не могло быть понятия психологической практики. Не в том, разумеется, дело, что он чего-то не додумал, и даже не в том, что социально-политические условия тогдашней жизни в стране не позволили бы психологической практике как таковой осуществляться в сколько-нибудь массовом масштабе, а потому, что психологической практики при жизни Л.С. Выготского вообще не существовало как сложившейся социальной реальности, она еще только рождалась из недр практической психологии, которая сама в ту пору не достигла совершеннолетия.
Первой, и даже отчасти переходной, формой был ранний психоанализ. Психоанализ осуществлялся уже как самостоятельная психологическая практика, но осознавал себя в начале как своего рода лечебную, медицинскую деятельность, оправдывающуюся ценностью здоровья. Однако это была уже не вполне медицина: слишком большой вес для психоаналитика имело раскрытие истины по сравнению с обычным медицинским прагматизмом, слишком много внимания уделялось душевным состояниям в процессе этого странного «лечения разговором», слишком всерьез для материалистической европейской медицины признавалась решающая роль психических процессов в этиологии заболевания. Медицинский миф и антураж долгое время удерживался, но всем было понятно, что это уже не медицина, что психоанализ — это какая-то психология. Но какая? Психоанализ совершенно не напоминал теоретическую и экспериментальную психологию того, да и нынешнего, времени. Это не была и «практическая», а именно медицинская психология, поскольку медицинский психолог как таковой обслуживает деятельность врача, а психоаналитик оказывал самостоятельную помощь пациенту. Это не была и «прикладная» психология, ибо психологические знания черпались не из научных психологических систем, чтобы затем быть использованными в психоаналитической работе, а складывались в опыте самой этой работы. Рождалась новая форма психологии.
Событие произошло, психоанализ дал небывалый еще в истории психологии и даже в истории культуры феномен собственно психологической практики как самостоятельной социальной сферы, живущей по своим законам, а не обслуживающей какую-либо иную сферу социальной жизни. Правда, этот феномен не был явлен еще, как сказано выше, в чистом виде, это был еще, быть может, не более чем «неандерталец» будущей психологической практики, несущей на себе зримый отпечаток своего происхождения из медицинской практики и естественнонаучного мышления. Возможно поэтому Л. С. Выготский, казалось бы, более всех других гроссмейстеров психологической мысли подготовленный своими же теоретическими построениями к восприятию методологического значения психоанализа, не успел полностью оценить масштаба события, произошедшего с выходом психоанализа на сцену культурной жизни.
Начало века изобиловало грандиозными научными открытиями, философскими прозрениями, художественными свершениями. Но даже на этом фоне психоанализ по своему влиянию на европейскую, а через нее и мировую культуру предстает одной из первых, если не первой вершиной. Уже к 1960-м годам XX века чуть ли не в каждом втором литературном произведении, фильме или спектакле, философской доктрине и бытовом разговоре, а то и в сновидении образованного европейца можно было обнаружить следы влияния, отголоски образов, схем и понятий психоанализа. Он в тех или других своих вариантах буквально пронизал и изнутри реформировал культуру. Отвлечемся пока от вопроса, хорошо это или дурно, сейчас речь лишь о реальности факта и масштабах явления.
Разве мог кто-нибудь в конце XIX, да и в начале XX века предположить, что психология, только-только появившаяся на свет как самостоятельная наука и находившаяся на периферии как научной, так и культурной жизни, вдруг так быстро и так громко заявит о себе?
Но чему, собственно, психоанализ обязан своей головокружительной карьерой? Разве не было научных психологических теорий такого же ранга, разве гештальт-психология, генетическая эпистемология Ж. Пиаже или та же культурно-историческая психология Л.С. Выготского были менее мощными психологическими концепциями? Разумеется, нет. Волшебная сила психоанализа, собственно, в том и состояла, что он, несмотря на все естественнонаучные установки своего создателя, не был в строгом смысле слова научной психологической теорией. Ни научной, ни психологической, ни теорией. Он был первой психотехнической системой, поставившей «камень, который презрели строители», — психологическую практику — во главу угла.
И именно то обстоятельство, что ставка была сделана на свою, психологическую практику, определило как внутренние теоретические достижения психоанализа — развитие принципиально нового стиля и типа мышления, так и его внешние социальные продвижения.
И Г. Мюнстерберг, и Л.С. Выготский мечтали о новой, сильной, жизненной, реальной психологии, оказывающей влияние на человеческую жизнь, на культуру, но они предполагали, что психология войдет в город современной цивилизации через ворота существующих социальных практик педагогики, промышленности, медицины, юриспруденции и т. д. как надежный и дельный оруженосец этих практик. Процесс этот начинался тогда и продолжается до сих пор. Но психоанализ избрал другой путь. Он обошелся безо всякого покровителя, сам прорубил в городской стене для себя ворота и въехал в город с невозмутимым видом «право имеющего». Без небольшого скандала, разумеется, не обошлось. Но с тем большим энтузиазмом новый пассионарий вскоре был принят в свете. Начался небывалый процесс психологизации культуры.
Если таким оказалось культурное значение первой, еще не до конца оформившейся и осознавшей себя психотехнической системы, то какую роль может сыграть развитая психотехника для судеб цивилизации, об этом можно пока только догадываться. Сомневаться не приходится только в одном, что эта роль, по крайней мере, не меньше, чем роль открытий в области ядерной физики[89].
Чем же, повторим, можно объяснить такой неслыханный «карьерный рост», который благодаря психоанализу совершила психология в первой половине XX века, заняв одну из самых влиятельных позиций в культуре? Неужели так сильны и масштабны были прямые результаты психоаналитических сессий, и с психоаналитической кушетки поднялся новый европейский человек? Вовсе нет. С точки зрения развиваемого здесь представления о психотехнике все социальные и культурные успехи психоанализа являются, так сказать, наградой за то, что он создал новую сферу культуры — самостоятельную психологическую практику.