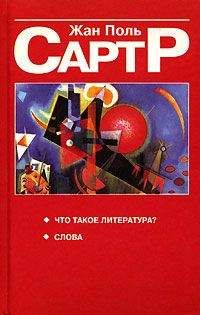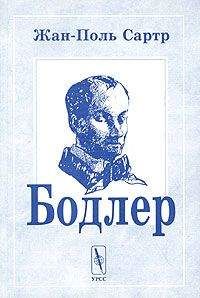Жан-Поль Сартр - Воображаемое. Феноменологическая психология воображения
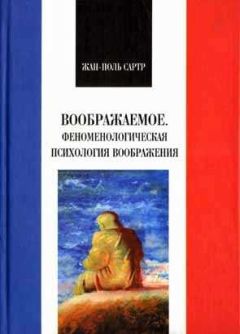
Помощь проекту
Воображаемое. Феноменологическая психология воображения читать книгу онлайн
Эти замечания позволят нам лучше понять то различие, которое каждый обязан проводить между воображаемыми и реальными чувствами, которые мы испытываем в сновидении. Бывают сны, в которых объективное Я охвачено ужасом, и тем не менее мы не называем их кошмарными, потому что спящий остается вполне спокоен. Стало быть, он ограничивается тем, что снабжает объективное Я теми чувствами, которые оно должно испытывать ради вящего правдоподобия ситуации. Эти воображаемые чувства «овладевают» спящим не в большей мере, чем те, которые принято называть «абстрактными эмоциями». Дело в том, что сновидение не всегда мотивирует реальные эмоции спящего; подобным образом и роман, даже если в нем излагаются ужасные события, не всегда оказывается способен нас взволновать. Я могу безучастно следить за приключениями объективного Я. И тем не менее они всегда происходят именно с этим ирреальным Я. Напротив, содержание какого-нибудь кошмара не всегда выглядит ужасающим. Дело в том, что реальная аффективность спящего по различным причинам, которые мы не будем здесь рассматривать, иногда предшествует сновидению, и сновидение словно «разыгрывает» ее на почве воображаемого. Иногда это приводит к ужасным приключениям, а иногда ничего страшного и не происходит; просто то, что происходит, интенционально схватывается как нечто мрачное, поскольку порождающий эту образность сновидец сам в реальности мрачно настроен. И тогда кошмарной становится сама атмосфера увиденного во сне мира.
Подобным образом мы можем теперь объяснить и ту очевидную аномалию, о которой недавно было сказано в одном из примечаний: мне часто снилось, что я прогуливаюсь по Нью-Йорку и испытываю огромное удовольствие. Пробуждение каждый раз оборачивалось для меня не «разочарованием», как обычно говорят, а, скорее, сожалением того рода, которое посещает нас по окончании спектакля. Поэтому иногда я говорил себе во сне: «Уж на этот-то раз я не сплю». Создается впечатление, что я совершал при этом рефлексивный акт и что этот рефлексивный акт вводил меня в заблуждение; тем самым под сомнение попадала бы сама ценность рефлексии. Но в действительности этот рефлексивный акт не был осуществлен реально: это был воображаемый рефлексивный акт, который совершало объективное Я, а не мое собственное сознание. Именно Я прогуливается среди высоких стен Нью-Йорка, именно оно вдруг говорит себе «я не сплю», именно ему мерещится достоверность бодрствования, подобно тому как какой-нибудь романный герой может вдруг протереть глаза и заявить: «Разве я сплю? Конечно же нет». Сознанию, которое видит сон, раз и навсегда назначено производить только воображаемое, и мы видели, что его заботы, его хлопоты оказываются спроецированы перед ним в символической и ирреальной форме. Забота о том, чтобы сон оказался явью, чтобы избежать сожаления, которое последует по окончании представления, не могла бы выразиться реально, если бы спящий не проснулся, так же как и зритель не мог бы подумать: «хорошо если бы вся жизнь была как эта театральная пьеса», не отстранившись от представления, для того чтобы как-то разместиться на почве реальности {реальные чаяния, реальная личность и т. д.). Здесь это желание яви, которое остается лишь желанием, сознает самое себя вовне, в трансцендентности воображаемого — и именно в этой трансцендентности воображаемого оно находит свое удовлетворение. Таким образом я воображаю, что объективное Я пожелало взаправду оказаться в Нью-Йорке, я воображаю это наряду с моим собственным желанием оказаться там, и фактически объективное Я — сообразно самим терминам вымысла — оказывается на улицах Нью-Йорка во плоти, а не в сновидении. Следовательно, тут нет никакой реальной рефлексии, и мы весьма далеки от пробуждения. Разумеется, так же дело обстоит и в отношении всех рефлексий, которые может порождать объективное Я, таких как «я боюсь», «я оскорблен» и т. д., — впрочем, сами по себе эти рефлексии встречаются довольно редко.
Напротив, единственное средство, которым располагает спящий, чтобы выйти из состояния сновидения, это рефлексивная констатация: я вижу сон. И для того чтобы достичь этой констатации, нужно всего-навсего продуцировать рефлексивное сознание. Только продуцировать это рефлексивное сознание едва ли возможно, поскольку мотивации, которые обычно могут вызвать его появление, таковы, каких уже не приемлет «очарованное» сознание спящего. В этом отношении нет ничего любопытнее тех отчаянных усилий, которые погруженный в кошмары спящий прилагает к тому, чтобы напомнить себе о возможности рефлексивного сознания. Чаще всего эти усилия бывают напрасны, потому что сама «очарованность» сознания сновидца вынуждает его придавать этим напоминаниям форму вымысла. Он пытается сопротивляться, но все ускользает в вымысел, вопреки его воле все трансформируется в воображаемое. В конце концов сновидение может прерваться только по двум причинам. Первая — это настоятельное вторжение реального; например, реальный страх, спровоцировавший кошмарное сновидение, сам по себе «схватывается» в кошмаре и в конечном итоге становится столь сильным, что разрушает очарованность сознания и мотивирует рефлексию. Я сознаю, что боюсь, и тем самым, — что вижу сон. Настоятельным может стать и внешний стимул, либо в силу того, что он застает спящего врасплох и не может быть немедленно схвачен как аналог, либо в силу своей необузданности, вызывающей реальный эмоциональный шок, который тут же становится объектом рефлексии, либо в силу определенных запретов, оказывающих свое беспрестанное воздействие сквозь сон.[113] Второй мотив, который может привести к прекращению сновидения, обнаруживается зачастую в самом сновидении: в самом деле, может случиться так, что развертывающаяся во сне история прийдет к такому событию, которое само по себе окажется неким пределом, после которого дальнейшее продолжение немыслимо. Например, мне часто снится, что меня собираются гильотинировать, и сновидение прекращается в тот самый момент, когда моя шея оказывается в круглом отверстии. Мотивом пробуждения здесь является не страх — ибо, сколь это ни покажется парадоксальным, это сновидение не всегда принимает форму кошмара, — а, скорее, невозможность вообразить, что же будет после. Сознание колеблется, его нерешительность мотивирует рефлексию, а это и есть пробуждение.
Мы можем сделать следующий вывод: сновидение — вопреки утверждению Декарта — вовсе не является схватыванием реальности. Напротив, оно потеряло бы всякий смысл, всю свою истинную природу, если бы хоть на мгновение могло полагать себя как реальное. Сновидение есть прежде всего некая история, и мы испытываем к ней страстный интерес, подобный тому, который наивный читатель испытывает при чтении романа. Оно переживается как вымысел, и только рассматривая его как вымысел, данный как таковой, мы можем понять, какие реакции оно вызывает у спящего. Однако это особый, «околдовывающий» вымысел: сознание — как мы показали в главе о гипнагогическом образе — оказывается связанным. И то, что оно переживает наряду с вымыслом, схваченным как таковой, — это невозможность уйти от этого вымысла. Подобно тому как царь Мидас обращал в золото все, к чему прикасался, сознание само себя приговаривает к тому, чтобы все, что оно схватывает, превращалось в воображаемое: отсюда фатальный характер сновидения. Именно улавливание этой фатальности как таковой часто путают со схватыванием предстающего во сне мира как реальности. Фактически природа сновидения состоит в том, что реальность повсеместно ускользает от сознания, которое вновь и вновь пытается ее схватить; все усилия сознания, вопреки его намерениям, ведут к порождению воображаемого. Сновидение — это вовсе не вымысел, принимаемый за реальность, это одиссея сознания, которое само собой и вопреки самому себе обречено конституировать один лишь ирреальный мир. Сновидение представляет собой особый привилегированный опыт, который помогает нам понять, что произошло бы с сознанием, если бы оно было лишено своего «бытия-в-мире» и тем самым утратило бы категорию реального.
Заключение
Глава 1. Сознание и воображение
Теперь мы можем поставить тот метафизический вопрос, который постепенно вырисовывался в ходе этого очерка феноменологической психологии. Его можно сформулировать следующим образом: каковы те характерные черты, которые можно приписать сознанию в силу того, что оно способно воображать? В плане критического анализа этот вопрос может принять такую форму: каким вообще должно быть сознание, если справедливо, что всегда должно быть возможно конституирование образов. Несомненно, именно в такой форме его лучше всего поймут наши ученые умы, привыкшие ставить философские вопросы в кантианских перспективах’ Но, по правде говоря, наиболее глубокий смысл проблемы может быть схвачен лишь с феноменологической точки зрения.