Иван Сеченов - Рефлексы головного мозга
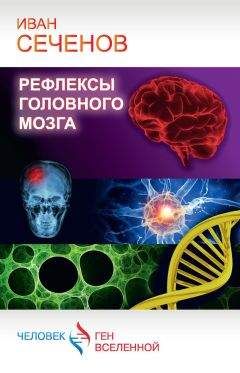
Помощь проекту
Рефлексы головного мозга читать книгу онлайн
Значит, перечень наш, несмотря на его краткость, действительно обнимает собою все общие случаи происхождения мыслимых нами связей и отношений между предметами внешнего мира. При этом условии предстоящая нам задача сводится к следующему.
Для каждого из перечисленных выше актов, именно: обособления предметов, различения в них признаков, узнавания по приметам, сравнения по сходству и ставления в причинную зависимость, – необходимо определить роль обоих переменных факторов в деле развития (расчленения) сложных впечатлений и превращения их в предметную мысль, т. е. роль изменчивого внешнего воздействия и развивающегося под влиянием упражнений органа восприятия или органа чувств. Если бы при этом оказалось, что на всех ступенях развития впечатления в чувственную мысль воспринимающий орган не творит, а только заимствует из действительности те элементы сложных впечатлений, которые зовутся в словесном образе мыслей «связкой», то задача наша была бы разрешена в утвердительном смысле.
Начнем же с актов обособления неподвижных предметов в пространстве.
2. Обособление это, как всякий знает, предполагает для всякого, доступного чувствам, земного предмета замкнутую в себя границу. Для чувства это собственно единственный критерий обособленности. Море никто не называет «предметом»; воздух есть «тело» только для ученых; свет, запах и звук считаются лишь свойствами тел. Наоборот, песчинка, облако, солнце – и для сознания простолюдина суть обособленные предметы.
Но границы тел узнаются, как мы видели в статье «Впечатление и действительность», только зрением и осязанием; значит, пространственное обособление земных предметов есть результат исключительно зрительных или осязательных (или обоих вместе) актов, и, насколько последние передают контуры предметов сходно с действительностью (см. прежнюю статью «Впечатления и действительность»), настолько чувственное обособление соответствует реальному.
Другими словами, чувствуемая и мыслимая нами раздельность предметов в пространстве навязана нашему уму извне.
Что касается до обособления явлений (перемен в состоянии и положении тел) в пространстве и времени, то я разберу два типических случая: движение и звучание.
С восприятием движения предметов глазом мы уже знакомы из статьи «Впечатления и действительность» и знаем, что воспринимающий орган, следя за движущимся телом, воспроизводит и чувствует движение, со всеми его особенностями (направлением и скоростями), настолько верно, что в общем чувствуемое и реальное совпадают друг с другом. Насколько глаз привык различать в движении, помимо его направления, скорость, всего лучше показывает зрительный обман, которого нельзя победить никаким рассуждением. Если смотреть под микроскопом течение крови по самым мелким сосудам у живого животного, то передвижение кровяных телец кажется очень быстрым, несмотря на то что в действительности оно происходит крайне медленно: в одну секунду кровяной шарик передвигается меньше чем на толщину маленькой булавочной головки. Обмен происходит оттого, что микроскоп, не изменяя времени перемещения крови, удлиняет в несколько раз путь ее перемещения.
Но если чувствуемое нами движение вызывается всегда реальным движением[58] – а это факт несомненный – и оба они сходны друг с другом, то все чувствуемые нами перемещения предметов в пространстве суть реальности, и все атрибуты движения навязаны нашему уму извне.
Измерителем пути и времени перемещения служит во всех случаях упражненное мышечное чувство, сопровождающее передвижения глаз[59]. Но у человека есть еще другой измеритель времени, это – слух. Для длинных промежутков времени он, как измеритель, правда, не годится, но зато короткие передает с изумительной точностью. Чтобы уметь танцевать под музыку в такт или держать в пении и в игре на музыкальных инструментах известный темп, нужен, как говорится, слух; и это справедливо в том отношении, что движения танцев, пения и игры на инструментах заучиваются и производятся под контролем слуха. Всякий человек «со слухом», имевший дело с метрономом, знает, с какой тонкостью определяет ухо правильность такта, т. е. равенство маленьких промежутков времени. Научные же опыты показывают, что слух ошибается при этом не более как в сотых долях секунды. Если прибавить к этому, что ухо крайне чувствительно к колебаниям слуха по силе и высоте, то становится сразу понятным, что слуховой орган есть аппарат, приспособленный преимущественно для восприятия колеблющихся в короткие промежутки времени по силе, высоте и продолжительности звуковых явлений. Если бы мир был наполнен звуками, тянущимися без изменения часы, то слух при его теперешнем устройстве был бы плохим органом. Но ведь на деле этого, по-видимому, нет. Даже в вое бури, в шуме леса и в реве моря, не говоря уже о звуках, производимых животными, ухо слышит более или менее быстрые колебания и переходы. Поэтому для нашего слуха обособленное звуковое явление есть тот звуковой minimum, которым характеризуется звучание данного предмета – шипение змеи, жужжание насекомого, стук мельничного колеса, крик птицы, мелодия грома или шума моря, артикулированные звуки человеческой речи и пр. и пр.
Против этого определения спорить, я думаю, никто не будет, но вслед за тем мне всякий скажет: такая обособленность действительно есть, но она лежит, может быть, исключительно в психической сфере человека, потому что для глухонемого внешний мир нем. Значит, чувствуемой обособленности звуков может не соответствовать никакая обособленность внешних причин звуковых явлений. Может быть, звуковые движения в мире действительно тянутся часы без изменений, а чувствуемые нами переходы и колебания звуков суть продукты организации слухового органа.
С тех пор, как устроен телефон и фонограф, вопрос этот разрешен вполне. На этих инструментах мы видим воочию способность пластинок колебаться, так сказать, в унисон с самыми сложными звуковыми движениями, до человеческой речи включительно. С другой стороны, мы знаем, что у нас в ухе есть такая же пластинка, что она колеблется при звуках и воспроизводит внешнее движение в виде звука несравненно лучше, чем пластинка в фонографе Эдисона. Как ни ухищряется этот гениальный механик усовершенствовать свой фонограф, но барабанная перепонка человеческого уха, с ее косточками, остается для него пока еще недостижимым идеалом. Как ни поразительно пение Патти, зарегистрированное и воспроизведенное фонографом, но оно все-таки не то, что пение, слышимое прямо ухом.
Итак, хотя мы не знаем, каким образом из движения родится ощущение звука, но строгие научные опыты показывают, что всякому чувствуемому нами колебанию или переходу звука по силе, высоте и продолжительности соответствует совершенно определенное видоизменение звукового движения в действительности. Звук и свет как ощущения суть продукты организации человека; но корни видимых нам форм и движений, равно как слышанных нами модуляций звуков, лежат вне нас, в действительности. Глаз относится к формам и движениям как фотографическая пластинка, способная воспринимать с ясностью не только неподвижные, но и перемещающиеся образы; оттого здесь сходство между чувствуемым и реальным настолько же осязательно, как между лицом человека и его фотографической карточкой. Сходство же между звуком и производящим его внешним движением хотя и касается всех сторон последнего как периодического колебания, именно продолжительности движения, силы и частоты колебаний, но не есть сходство в строгом смысле слова, а есть лишь параллельность или соответствие. Слышимый звук может быть сходен только со звуком же, не с движением, тогда как в зрительной области видимая форма походит на действительную.
Как бы то ни было, слух есть хотя и условный воспроизводитель известного рода внешних движений (переводящий их на язык звуков), но из всех, устроенных доселе человеком, инструментов, регистрирующих звуковые колебания, он оказывается самым тонким и верным. Правда, сфера звуковых движений в природе должна быть несравненно шире сферы слышимых человеком звуков[60]; следовательно, слух передает действительность далеко не полно, но это обстоятельство делает его снарядом, ограниченным по сфере, а не по тонкости и верности воспроизведения. Глаз тоже не видит предметов микроскопической величины, но это не мешает ему быть, в пределах своего действия, самым тонким регистратором форм.
Итак, чувствуемой звуковой обособленности соответствует обособленность реальная. Все то, что мы называем модуляцией звуков, имеет корни вне нас, и чувствование идет параллельно внешнему движению. Начало звука совпадает с началом движения, конец – с концом, переход звуков по высоте, силе и продолжительности – с числом, величиной размахов и продолжительностью звукового движения.
























