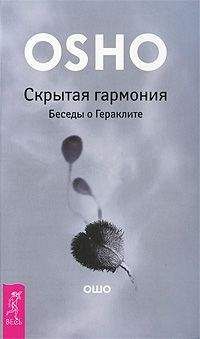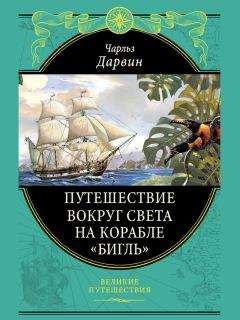Валериан Лункевич - Подвижники и мученики науки
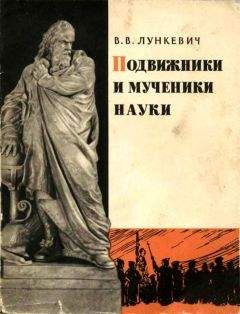
Помощь проекту
Подвижники и мученики науки читать книгу онлайн
Книгопечатание, как всякое новшество, способствующее раскрепощению людей, было встречено враждебно некоторыми общественными группами XV века. Первыми взбунтовались, конечно, переписчики книг: их ремеслу, их заработку книгопечатание приносило явный, непоправимый материальный ущерб. Неодобрительно отнеслись к нему и церковные власти. Папы первое время даже не прочь были бы запретить книгопечатание. Почему? Чем меньше паства имеет дело с книгами, тем меньше у нее соблазна думать над тем, что ей преподносят с высоты амвонов и проповеднических кафедр. Если книги духовные печатаются на латинском языке, то с этим еще, куда ни шло, можно примириться. Но когда их станут печатать на доступном всякому грамотному человеку языке, тогда соблазнов, лжетолкований и ересей не оберешься. И совсем уж гиблое дело — печатать книги светские. Не говоря уже о том вреде, который приносят такие книги мирянам, нельзя не предотвратить тех бед, которыми они грозят духовенству.
Впрочем, церковь не долго протестовала. Церковники довольно скоро уразумели, что печатное слово может оказаться довольно сильным оружием в борьбе за интересы церкви, особенно если ввести строгую цензуру для печатных произведений и предавать анафеме и прямому запрету все, что может повредить церкви.
Станок Гутенберга был весьма радушно принят в различных странах: на книгу, и светскую и духовную, имелся уже в условиях эпохи Возрождения значительный спрос; удовлетворение этого спроса было делом прибыльным.
У нас книгопечатание было введено сто с лишком лет спустя после того, как Гутенберг отпечатал Библию. До этого и у нас книги переписывались, а перепиской, как и везде, занимались монахи и послушники. Рукописные книги ценились очень дорого, испортить такую книгу считалось большим грехом.
XVI век, особенно в царствование Ивана Грозного, и у нас был отмечен развитием денежного хозяйства и торговли, а также связей с другими государствами. Для укрепления царской власти и новых порядков, поддерживаемых царем, у нас как и всюду понадобилась помощь духовенства; и духовенству нужны были монастыри и церкви, которым, в свою очередь, необходимы были «священные» книги. Решив увеличить на Руси число монастырей и церквей, царь Иван IV, поняв пользу книгопечатания, выписал из-за границы мастеров печатного дела. С ними не столковались. Но до Грозного дошел слух, что в самом Московском государстве есть книгопечатники, отлично знающие свое дело: Иван Федоров, диакон при церкви Миколы Гастунского в Кремле, и Петр Тимофеев, по прозвищу Мстиславец.
Памятник первопечатнику Ивану Федорову в Москве
Эти два человека и были родоначальниками книгопечатания на Руси. На подмогу им был вызван из Новгорода еще Васюк Никифоров, про которого ходила молва, что он «умеет речь всякую вырезывать».
На Никольской улице построили «Печатный двор», первую русскую типографию. В 1563 году русские первопечатники принялись набирать книгу «Деяния апостольские, послания соборные и святого апостола Павла послания». Через год книга была готова и вышла в свет. Вслед за ней стали печатать и другие книги. Но и у нас, как всюду, книгопечатание пришлось не по вкусу переписчикам. Защищая свой заработок, они принялись натравливать на печатников невежественных людей, называя их богоотступниками, служителями дьявола-искусителя, а печатание объявили нечистым делом, волшебством. И в один злосчастный день «Печатный двор» подожгли, типографию разграбили, печатные станки разбили… Иван Федоров, спасая жизнь свою, должен был ночью, тайком бежать из Москвы за границу. Ему удалось захватить с собой кое-что из типографских принадлежностей. Бежал он с товарищем в Литву, а оттуда перебрался в галицкий город Львов с намерением открыть здесь типографию. Но участь русского первопечатника была столь же тяжела, как и участь изобретателя печатного дела. В Львов пришел он нищим и вынужден был искать средства существования.
Иван Федоров — человек твердой воли. Он безгранично верил в свое дело, верил, что книгопечатание должно принести людям огромную пользу. Довольно скоро он понял бесполезность обращения за помощью к богатым и знатным и идет к простым мирянам, людям среднего, а чаще малого достатка. Собрав небольшое количество денег, он налаживает типографию и начинает понемногу печатать книги. Так до самой смерти не бросает Федоров любимого дела, терпя ради него и нужду и даже унижение. В 1583 году он умер.
Пока существует общество, имя Гутенберга, с тяжелыми лишениями положившего начало печатанию книг, будет со славой переходить из поколения в поколение. Не забудутся и имена первопечатников Ивана Федорова и его соратника Петра Тимофеева, повторивших у нас славное дело Гутенберга.
Глава пятая. Святейшая инквизиция
Материальное положение городов начиная с XIV века улучшалось. Росла их политическая самостоятельность. Прибавлялись знания. Все серьезнее становился разлад среди ученых богословов. Авторитет духовенства падал. Многие, оставаясь верующими, отходили от католичества. Объявилось много смельчаков, возникали различные ереси[9], критиковавшие католическую религию, ее учение и обряды, образ жизни и нравы ее служителей.
Могла ли церковь отнестись ко всему этому безразлично? Разумеется, нет. Борясь за свои интересы, защищаясь от нападок, католическая церковь организовала одно из свирепейших судилищ, какие когда-либо существовали в истории человечества, — инквизицию, особый орган, которому надлежало судить и карать всех вероотступников и богохульников, всех более или менее озаренных светом мысли и знания, всех, в ком проявлялись чувство независимости и любовь к свободе.
Большинство историков относит учреждение инквизиции к первой половине XIII столетия (1228–1231). Но до второй половины XV века не существовало особого постоянного трибунала, на который возлагалась бы обязанность судить еретиков. Обычно время от времени в тот или иной город присылался епископ-инквизитор, который производил следствие и выносил приговор. Исполнение приговора поручалось светской власти. Это, однако, нисколько сути дела не меняло: подлейшее из подобных судебных учреждений оставалось таковым и тогда, когда суд производился единолично епископом, и тогда, когда это делалось целым коллективом.
«Сам бог был первым инквизитором, а первым инквизиционным судом был суд над Адамом и Евой после грехопадения»— так рассудили основатели инквизиции и, освятив свое «благое» начинание ссылкой на бога, принялись томить в тюрьмах, пытать, душить, сжигать тысячи людей.
Перед лицом «святейшей» — так называли инквизицию — человек чувствовал себя лишенным всяких прав. Тот, кого вызывала инквизиция, кого приводили к инквизитору на допрос, наперед уже считался виновным на основании сделанного на него доноса. От него требовалось только, чтобы он «сознался в своей вине». С этой целью инквизитор, ведя следствие, старался опутать свою жертву сетью хитро придуманных вопросов. Допрос тянулся долго, много раз повторялся, сопровождался возмутительным крючкотворством, чередовался с утонченными пытками: водой, железом, огнем, пыткой на дыбе. И обвиняемый часто сам переставал понимать, еретик он или нет.
Все ходили под страхом обвинения в какой-нибудь ереси, в богохульстве или вольнодумстве.
Друзья, знакомые, случайные встречные — все находились под взаимным контролем, все, во славу божию, свидетельствовали друг на друга, все были предметом поголовного сыска. Родители предавали детей — кто по религиозному рвению, а большинство от страха; дети отрекались от родителей. Многие сами являлись в инквизицию с повинной и, в расчете на милость, «сознавались» в не совершенных ими грехах и преступлениях.
Нужно ли удивляться, что благодаря страху, нагнанному инквизицией, в обществе процветали доносы, шпионаж, провокации. Доносчики, официальные и добровольные, лезли буквально во все щели семейного и общественного быта, опутывали клеветой мирных граждан, пытались проникнуть в их мысли и сердца недреманым оком и всюду приникающим ухом, преследовали обреченных. Люди трусливо осматривались по сторонам и прислушивались ко всему, что могло внушить хотя бы только тень подозрения. Не доверяли друзьям, членам семьи и домочадцам. Боялись стен своих, трепетали в подлых цепких лапах предательства.
И было из-за чего трепетать, особенно в Испании XV столетия, когда во главе инквизиции стал хитрый, как лиса, и хищный, как изголодавшийся волк, «великий инквизитор» — Фома Торквемада (1420–1498).
Уже в самом начале своего владычества «великий инквизитор» отправил на костер триста человек и около сотни еретиков осудил на вечное заточение в тюрьмах. А за все время его «плодотворной деятельности на пользу церкви и государства» было сожжено свыше десяти тысяч человек. Это составило несколько меньше одной трети всех сожженных в Испании еретиков за время энергичной работы инквизиции, продолжавшей усердствовать и в XVI веке. Сжигались не только люди, но и «вредные» книги. Так, согласно распоряжению того же Торквемады только в одном городе сожгли шесть тысяч книг различных авторов; с его же благословения огонь пожрал огромную библиотеку королевского принца. Еще бы! Книги, наука, образование числились в ряду самых опасных врагов церкви и поддерживающей ее власти.