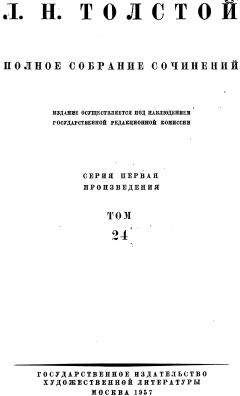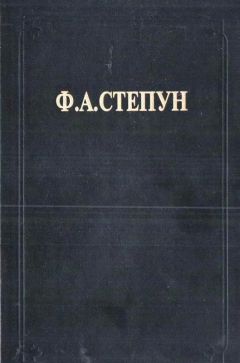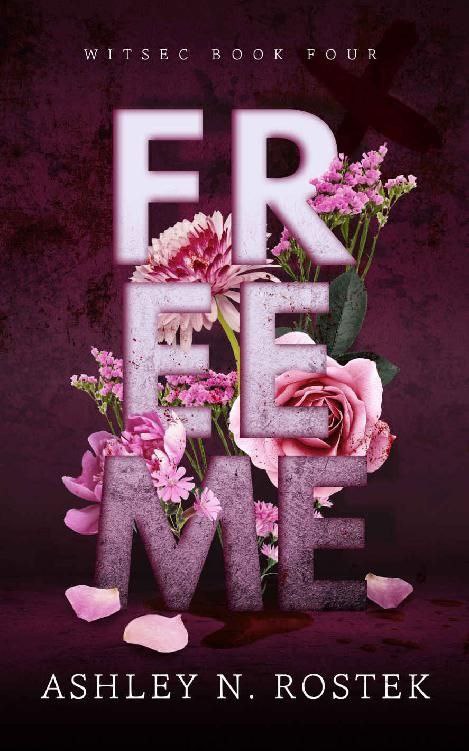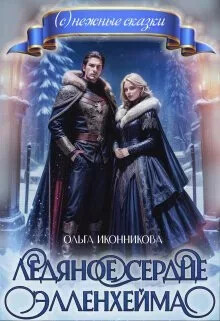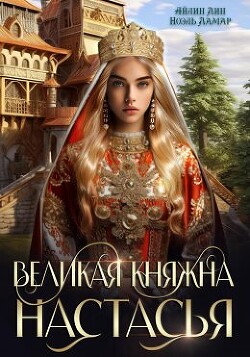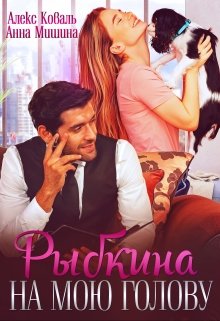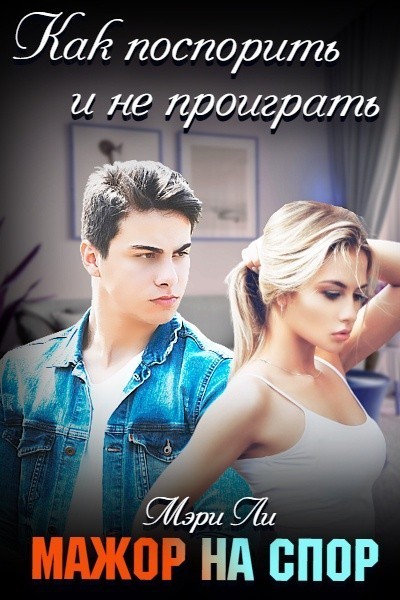Фёдор Степун - Бывшее и несбывшееся

Помощь проекту
Бывшее и несбывшееся читать книгу онлайн
Время летит. Нам надо поспеть еще в самый дальний угол парка, где помещается, с трудом переносимое матерью, любимое детище отца — «вонючий» зверинец. В крепко слаженных и, как в заправском зоологическом саду, обставленных деревьями, пнями, камнями и колесами клетках сидят, лежат, кружатся, скучают и волнуются волчата, лисицы, куницы, хорьки, белки, ежи, ястреба, совы и всякая иная лесная и полевая живность и нечисть средней полосы России. Особую брезгливость мать испытывала к непрерывной, хвостатой суетне всевозможных крыс, мышей, змей и ужей.
Долго заглядываться на все это зверье нам с братом, впрочем, не приходится. Ровно в восемь мы верхом выезжаем навстречу нашему учителю, Ивану Васильевичу Власову, очень еще молодому человеку с ласково–застенчивой улыбкой, с ласково светящимися глазами и с непослушною пепельною кудрей над левой бровью. Мама, очень серьезно относящаяся к своим обязанностям попечительницы народной школы, заведывать которой, не без ее влияния, был с год тому назад приглашен молодой учитель, упорно отстаивает его, как «искреннего идеалиста», и, главное, как «убежденного народника». Мы с братом, конечно, без ума от этого тайного революционера. Его преподавание русского языка и истории, живое и интересное, совсем не похоже на прекрасно продуманные, но несколько педантичные уроки немецкого и французского языков нашей гувернантки, фрейлейн Штраус, в распоряжение которой мы поступаем к 11–ти часам утра, после того, как в перерыве сбегаем поздороваться с мамой, пьющей в это время утренний чай на задней тенистой террасе и совещающейся с Афимьей, что готовить на вечер и к завтрашнему обеду. «Как скучно, — иной раз жалуется мама, — каждый день выдумывать, что готовить, а Афимья, у которой много усердия, но никакой фантазии, никогда не предложит ничего нового: все битки да беф Строганов, блинчики да шпанский ветер» (Шпанским ветром называлось у нас безэ со сбитыми сливками).
«Красный» Иван Васильевич и буржуазно–снобистическая англо–германка Штраус, в своей молодости изучавшая педагогику в Швейцарии, так упорно трудятся над нашим обучением, потому что мама очень боится, как бы мы не провалились на приемном экзамене в первый класс реального училища (отец твердо высказался против классического образования). Что нам с братом, хотя мы довольно способные и вовсе не ленивые дети, учиться жарким веселым летом нет никакой охоты — ясно. Мы и не очень стараемся; мама иной раз приходит в отчаяние, но втайне нам сочувствует и, пугая провалом, последнего дошкольного лета прекрасного нашего детства, слава Богу, не портит. А прекрасным оно поистине было, наше благоуханное, наше благословенное, щедрое деревенское детство.
Не сорвись русская жизнь со своих корней, не вскипи она на весь мир смрадными пучинами своего вдохновенного окаянства, в памяти остались бы одни райские видения. Но Русь сорвалась, вскипела, «взвихрилась». В ее злой беде много и нашей вины перед ней. Кто это совестью понял, тому уже не найти больше в прошлом ничем не омраченных воспоминаний.
В блужданиях по далям прошлого человеку ведомы совершенно такие же подъемы на вершины, как и в его странствиях по земным просторам. С такой вершины моей памяти мир нашего деревенского детства видится мне неохватной ширью и далью небес, полей, рек, лесов, снегов, дождей… Всего этого несравненно больше, чем комнат, людей, учебы и чтения. Много только еще музыки, главным образом, пения. Поет мама и ее, часто гостящая у нас, подруга. Прошлое почти всегда живет борьбою с настоящим. Не оттого ли, что в большевистской России был очень скоро запрещен церковный звон, небесные своды моего детства вспоминаются мне в непрерывном благовесте нашей Кондровской колокольни.
Зимой, когда заваленная снегом деревня бывала так благостно тиха, мощные, гулкие волны колокольного звона с такою силою врывались в приоткрытую форточку, что, казалось, звонят не на колокольне, а в доме, прямо тебе в ухо. Летом, при открытых окнах, звон как–то меньше замечался, отлетал, расплывался по миру.
В Троицын и Спасов день, на Воздвиженье — нарядная, пахнущая дегтем, деревянным маслом, кумачом и махоркой толпа заливала не только церковный задний, но и барский двор. И до и после службы я верчусь у коновязи. Из–под моих ног то и дело вспархивают задорно–веселые, драчливые воробъи.
Влюбленный во всех лошадей, я раздаю им кусочки сахару и чувствую, как непередаваемо мягки и нежны их теплые, морщинистые губы, как бесконечно кротки и печальны их милые глаза над ветхою рядиною навешанных торб.
Шестое августа — яблочный Спас — в деревне большой праздник. На весь мир пахнет скороспелой грушевкой. В соседнем саду штабс–капитанской вдовы Жучихи, сдаваемом в аренду, в этот день идет особо упорная борьба между вооруженным шалашом и шустрой, босоногой партизанщиной. У садовой калитки не умолкает разноголосый стон: «Дяденька, дай яблочко».
В церкви идет служба. Райски–сладостный, земной аромат яблока сливается с пряным духом ладана. Не только душой, но и всем своим телесным составом ощущаешь, как земля возносится на небо, а небо нисходит на землю. Кажется, никто еще не выразил того, христиански–плотяного, домашне–хозяйственного ощущения Божьей земли, без которого немыслима никакая деревенская жизнь, ни помещичья, ни крестьянская, с такою краткостью и полнотою, как подлинный сын трудового, православного мира и выдуманный эпохою и самим собою коммунист Есенин, в своей имеславски–литургическои строке: «Пухнет Божье имя в животе овцы». Есенин, — т. е. себя самое не понявшая крестьянская Россия — очень большая и сложная тема и о ней речь еще впереди. Пока же вернемся под своды моего родного калужского неба. Право, оно не было столь скучно однообразным, как то неизбежно утверждали просвещенные ценители западно–европейских курортов.
Знойными летними днями над красно–желтою гладью необъятных ржаных полей, а, равно и зимними морозными утрами, когда наши ковровые сани быстро неслись среди голубых на солнце снегов, оно бывало таким же ликующе–синим, как на счастливой итальян–ской Ривьере. Слова предсмертной записки застрелившегося в Марселе эмигранта: «а в Туле небо было ярче» не такое уже преувеличение, в особенности если принять во внимание преображающую силу тоскующей памяти.
Совсем иным бывало оно по осени. Все чаще вспоминая его исполненные светлой, Пушкинской печали голубые своды, под которыми в моей душе родилось и выросло все святое, чем я сейчас живу и с чем сойду в могилу, я вполне понимаю, как в юной, но и древней душе Бунинского Арсеньева могла вырасти любовь к готике и к звуку органа.
Эти высокие и все же скромные, сентябрьские дни (колодезная ли бадья на деревне ударится о стенку сруба, яблоко ли в конце сада сорвется с ветки — все слышно) постепенно сменялись совсем иными, поздне осенними, хмурыми днями. Кто из нас, выросших в деревне, не знает томящей скуки этих быстро меркнущих дней? Клочковатое, свинцовое небо низко нависает над почерневшею соломою изб и сараев. Перед надворными службами рябят огромные непросыхающие лужи, через которые с трудом перепрыгивают мужичьи сапоги. Бабы, обмотанные всяким старьем, с коченеющими от холода лиловыми руками, дорубливают под навесом капусту. За оконными рамами, еще ординарными, и в печных трубах отчаянно воет ветер. То затихающий, то снова принимающийся лить дождь уныло барабанит по стеклам классной комнаты и по нервам фрейлейн Штраус. Она не знает, куда деваться от русской скуки, а мы не знаем, куда деваться от ее европейских нервов.
Так в быстром лёте дней, от первой весенней капели до первой зимней пороши, от первой выставляемой рамы, с «протарарыкиванием» по шоссе телег, до первой вставляемой, с протапливанием слегка дымящих печей, протекает наша детская жизнь. Какая бы ни стояла на дворе погода, у нас на душе всегда солнечно. Ссоры с братьями и сестрами, слезы, болезни, назидания фрейлейн Штраус и мамины огорчения нашими шалостями — всего этого, о чем я знаю, мне с вершины моей памяти не видно.
Если я сейчас сяду в то кресло моей комнаты, в котором я никогда не пишу и не читаю, а лишь «пролетаю в поля умереть», и привычным движением души наложу на диск моей памяти не стирающуюся от времени пластинку с золотой надписью «детство», то перед моими глазами поплывут одна за другой райские картины той жизни, за которую ныне так страшно расплачивается Россия. Часто думаю: за что и ради чего спасла меня от этой расплаты судьба…
По зеленой обочине екатерининского большака, под низко свисающими ветвями уже загрустивших желтизною берез, мягко катится глубокая коляска на резиновом ходу. Я сижу на откидной скамейке. Против меня мама, в наглухо застегнутом сером шелковом пальто, а рядом с нею молодая женщина в желтом платье и черной накидке без шляпы — жена недавно поступившего на фабрику инженера Филатова. Она оживленно разговаривает с мамой; ее грустные карие глаза блестят неестественным блеском, на ее несколько широкоскулом лице горят пятна румянца, а влажные губы то и дело горячо открываются над ровными, белыми зубами. Я чувствую, что вокруг новой маминой подруги кружится какая–то грустная тайна, которую я невольно связываю с непонятным мне словом «туберкулез», как–то брошенным взрослыми во время разговора о Филатовых. Особенно нравится мне, что Филатову зовут необыкновенным именем — Любовь Мильевна. Она, действительно, очень мила и я ее как–то по–особенному люблю, совсем иначе, чем маму.Позади коляски, играя нервными ушами и гневно разбрызгивая пену с мундштука, взволнованно идет вороной жеребец Падишах; над его головою ритмически приподымается и опускается мощная, плотная, но изящная фигура всадника в светлой фетровой шляпе и светло–желтых перчатках. И лошадь и всадник как–то не по–русски нарядны и картинны. Это красуется старший инженер фабрики, балтиец с польской фамилией — Леппевич.