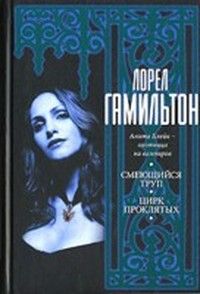Сборник статей - Мусульмане в новой имперской истории
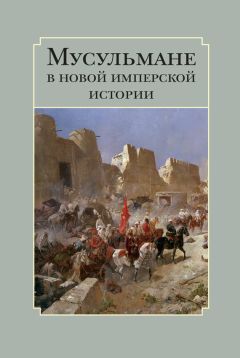
Помощь проекту
Мусульмане в новой имперской истории читать книгу онлайн
Для военных и политиков русского Туркестана риторика «просвещения и цивилизаторства» оставалась, по всей видимости, лишь необходимым антуражем, маскировавшим вполне прагматичные цели «покорения окраин». По словам С. Горшениной, цивилизаторская миссия стала средством «политической легитимации» завоевания[227]. Во времена первого «устроителя края» К.П. Кауфмана риторика миссии вошла в политический и даже военный лексикон наряду с такими терминами, как «замирение», «завоевание» и «продвижение». При нем идея российской имперской миссии стала влиятельным политическим фактором, Кауфман даже инициировал и финансировал ради этой цели ряд архивных проектов[228].
Со временем эта риторическая и политическая работа действительно сформировала у властей и экспертов в Туркестане ощущение собственной «высокой цивилизаторской/просвещенческой миссии», пусть даже эта миссия реализовывалась с помощью силы или вопреки желанию местных народов. Вариации на темы цивилизаторской миссии оставались своеобразным ориентиром для многих русских исследователей края, включая Н.П. Остроумова (1846–1930) и отчасти В.П. Наливкина (1852–1918), хотя позиция последнего радикально менялась в зависимости от множества обстоятельств, в том числе и личного порядка[229]. Н.П. Остроумов действительно приложил немало усилий для «образования туземцев» – конечно, согласно той модели, которую разделял он сам и его единомышленники [230].
Андижанские события вновь оживили цивилизаторские настроения и соответствующее политическое и исследовательское видение ислама. Тон обсуждения задавали те колониальные эксперты (в том числе и Н.П. Остроумов), кто был в корне не согласен с инициированной фон Кауфманом политикой «последовательного игнорирования мусульманства» и невмешательства в духовные дела мусульман. Андижанское восстание, позволявшее искусственно нагнетать представления об «исламской опасности», использовалось ими как повод пролоббировать ужесточение административного контроля в «мусульманском вопросе».
Более трезвую оценку как самого восстания, так и масштабов «исламской угрозы», как представляется, предложил С.Ю. Витте, мнение которого, возможно, сформулировали представители санкт-петербургской школы востоковедения[231].
В упоминавшейся выше «Записке» Андижанское восстание и аналогичные выступления оценивались как «мелкие вспышки религиозного фанатизма», которые «едва ли правильно было бы принимать в расчет в смысле характеристики отношений всего мусульманства к русской власти: возмущения на почве невежества… случались и среди коренного русского населения»[232]. Витте также справедливо полагал, что предложенные С.М. Духовским мероприятия могут породить неприязненное отношение к России не только в Туркестане, но и во всем мусульманском мире[233]. С его точки зрения, крайнюю позицию занимал не столько непосредственно С.М. Духовской[234], сколько те, кто готовил подписанные им документы, т. е. местные эксперты. Их состав частично совпадал с составом авторов знаменитого тогда «Сборника материалов по мусульманству»[235].
Другой, менее известный, пример критики радикализации политики империи в «мусульманском вопросе» связан с «Докладом» мусульманского офицера на царской службе Абдулазиза Давлетшина (мусульманское имя – ‘Абд ал-Азиз Давлат-шах)[236]. Автор, тогда еще капитан, достаточно прозрачно намекал на то, что призрак андижанских событий стал причиной односторонних оценок ислама и мусульман. А. Давлетшин, между прочим, открыто признавал «рутинность и косность» большинства мусульман того времени и застойных форм мусульманского образования в Туркестане. Однако он призывал отделять «истинный дух ислама» от его исторически сложившихся форм и «наслоений позднейших толкователей» или от «прибавлений и разъяснений позднейших толкователей». Особенно категорично он возражал против тезиса, высказанного в «Сборнике материалов по мусульманству», согласно которому мусульмане были «самыми непримиримыми врагами христианства», а ислам учит «ненавидеть все прочие религии, предписывает истреблять христиан при всяком удобном случае». Давлетшин резонно замечал, что такого рода характеристики у человека, не знакомого с основами ислама, вызовут недоверие и вражду к «туземцам» Средней Азии. У мусульман же подобные суждения об их религии оставят «чувство… глубокой обиды и способствуют еще большему увеличению исторически сложившейся розни»[237].
Примерно через десять лет после Андижанского восстания дискуссии по «мусульманскому вопросу» вновь оживились, на сей раз – благодаря министру внутренних дел и председателю Совета министров (с 1906 г.) П.А. Столыпину и в контексте новых «угроз» целостности империи – панисламизма и пантюркизма. Не останавливаясь подробно на документах по этому поводу, подписанных Столыпиным, отмечу лишь наиболее важные для наших целей положения[238]. Столыпин не просто напрямую ссылался на Доклад генерала Духовского, но и воспроизводил некоторые тезисы, высказанные в документах, подготовленных некогда экспертами последнего. Так, в «Записках» П.А. Столыпина по «мусульманскому вопросу» вновь предлагалось отказаться от политики «игнорирования ислама». Вместо нее следовало практиковать осторожный и тактичный административный контроль, не задевающий религиозных чувств мусульман. На фоне роста «панисламизма» политика «игнорирования» угрожала, как полагали составители документа, государственным интересам России. По мнению русских дипломатов и жандармских служб, влияние «панисламизма» исходило из Турции и отчасти из Индии.
Риторика столыпинских документов была лишена открытых коннотаций цивилизаторской миссии. Однако предлагавшиеся его экспертами, прежде всего А.Н. Харузиным, мероприятия де-факто все еще несли в себе дух mission civilisatrice и были основаны на идее «ускорения культурной ассимиляции»[239].
«Записки» П.А. Столыпина не были реализованы в полном объеме в связи с его гибелью в Киеве от руки террориста (сентябрь 1911 г.). Однако положительным последствием повторного возбуждения «мусульманского вопроса» стало оживление исламоведческих исследований, повышение их научного уровня, а также появление проектов специальных курсов по исламоведению и журнала [240].
Итак, с одной стороны, мы имеем Андижанское восстание – событие, которое, несмотря на все его трагические последствия, осталось локальным, сосредоточенным в определенном районе Ферганской долины (Андижан, Ош и округа) и не поддержанным населением ни собственно колонии, ни ханств. Скорее наоборот, в Туркестане часто можно было услышать осуждающие разговоры о том, что «неграмотный Ишан из черни» нарушил существующую «мирную фетву с Белым царем». Локальность восстания стала результатом достаточно взвешенной политики (в том числе и по самому больному вопросу – «магометанскому», в самом широком смысле этого определения), начало которой было положено К.П. Кауфманом.
Одновременно для большинства русских экспертов Туркестана и колониальной администрации Андижанское восстание дало повод выплеснуть свое недоверие к мусульманам (несмотря на влияние либерализма в тогдашнем понимании). Восстание подогрело опасения, связанные с «исламской угрозой». Оно еще долго упоминалось во множестве научных и особенно популярных публикаций того времени, причем как очевидный пример «неблагонадежности мусульман» и их неправильной реакции на «высокую миссию России» в регионе. Реакция многих мусульманских интеллектуалов не совпадала ни с «повстанческой», ни с «колониальной» позициями и при этом не была подобострастной. Судя по собранной А. Эркиновым подборке «антиишановских» стихотворений[241], такая реакция вполне соответствовала давней традиции, предписывавшей не раздражать более сильного противника и искать копромисса с ним («фетва с Белым Царем»).
«Большинство из нас – плохие культуртрегеры…не подготовленные к своей службе в иноплеменном и иноверном крае»[242]Итак, очередное оживление дискуссий по «магометанскому/мусульманскому вопросу» на рубеже веков явилось своеобразной реакцией на Андижанское восстание. Направление и содержание дискуссий во многом задавали туркестанские эксперты вроде В.П. Наливкина и Н.П. Остроумова[243]. Первый из них, кроме личного участия в подготовке «Доклада» генерала Духовского, составил самостоятельную экспертную записку о «мусульманском газавате». Этот «газават», по мнению Наливкина, угрожал России и в целом «христианской культуре». Основания для подобных опасений В.П. Наливкину дали статьи индийских «реформаторов»[244].