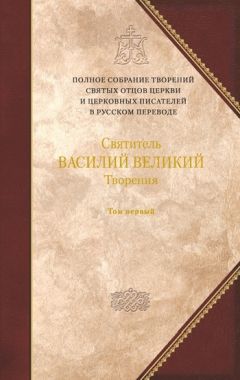Павел Хондзинский - Святитель Филарет Московский: богословский синтез эпохи. Историко-богословское исследование
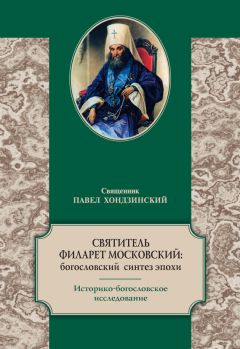
Помощь проекту
Святитель Филарет Московский: богословский синтез эпохи. Историко-богословское исследование читать книгу онлайн
Согласно, свт. Георгию, Слово Божие есть послание Бога к человекам и уже этого одного достаточно, чтобы внимать ему со вниманием и трепетом[165]. Кроме того только через него можно познать живущего во свете неприступном и в то же время сосредотачивающего в себе добро и жизнь Бога[166]. То, что оно есть именно слово Божие, свидетельствуется содержащимися в нем пророчествами, чудесами апостолов и пророков [167], но вообще его собственное внутреннее свидетельство выше всякого чуда и ему подобает верить более, чем даже чьему-нибудь воскресению из мертвых[168]. Задача сводится только к тому, чтобы основательно вникнуть в смысл Писания, для чего необходимо в том числе и знание языков[169]. Всякое же слово человеческое «никакого уважения, разве когда о вещи важной, не заслуживает»[170]. Под определение «человеческого слова» попадают даже и писания святых мужей, что явствует хотя бы из того, что они неоднократно переделывали их, тогда как слово Божие написано прямо под водительством Святого Духа[171].
Почитая своей первой задачей учительство, святитель предупреждает своих слушателей, что будет говорить не от себя, но то, что услышит от Моисея и пророков, от Христа и апостолов, которые будут через него беседовать с ними[172]. Однако это посредничество в передаче слушателям слова Божия само по себе ничего не дает, ибо проповедник говорит «только к уху», а надо еще, чтобы «Слово Отчее» отверзло сердца и само глаголало в них[173]. Писание, следовательно, является только формальным носителем знания о Боге, Который должен еще послать Свое внутреннее слово в сердце человека, чтобы знание это действительно приблизило нас к Богопознанию. Значит ли это, что одного внутреннего слова может быть достаточно для последнего? Вопрос остается без прямого ответа, но, во всяком случае, научное богословие не является необходимым посредником для этого: Бог познаётся не «многими рассказами и долговременным ума томлением, как прочие вещи познаются, но долгим искусом и за обыкновением в святом и целомудренном житии… А се то и причина есть, для чего многие, богословия неучившиеся, но свято и честно живущие, изрядно Бога познают…» (курсив мой. – Свящ. П. Х.)[174]. Так восстанавливается отвергнутый Прокоповичем аргумент о внутреннем свидетельстве Писания. Область научного богословия сужается, главной его задачей остается испытание «человеческих» преданий.
Последние оцениваются святителем Георгием достаточно строго. Весьма характерные примеры здесь – Слова на Покров и на память Нерукотворного Образа. В них противопоставляется ненадежное Предание и несомнительное Писание. Трудно сказать, рассуждает святитель, действительно ли такова была история Нерукотворного Образа Спасителя, как она сохранилась в Предании, но есть и иной Нерукотворный Образ Божий, о котором недвусмысленно сообщает слово Божие: человек, – и знание о нем необходимо нам гораздо более[175]. Впрочем, если в указанном Слове святитель хотя и не подтверждает, но и не опровергает предания, то в Словах на Покров прямо укоряет думающих, будто покров Богородицы может защитить грешников, на которых гневается Сын Божий[176], поскольку омофор на руках Богородицы не иное что, как Божественная благодать Ее Сына[177]. Он и есть истинный Покров, данный нам прежде века. Если мы не прибегнем к Нему до дня суда с покаянием, то нас не спасет и покров Богородицы[178]. Здесь святитель Георгий подвергает сомнению уже не просто непросвещенное суеверие, но традицию, представленную именем хотя бы уже прославленного к тому времени святителя Димитрия Ростовского[179].
Однако чем более существующее предание объявляется только «человеческим» и чем более, стало быть, сужается область его необходимого применения, тем более, очевидно, возникает потребность в том, что могло бы заменить его в повседневности, ведь и научное богословие, само будучи «человеческим», способно выполнить только критическую, но не созидательную работу. Святитель Георгий решает эту задачу путем прямого соотнесения библейских текстов с современностью[180]. Введение жизни в библейский контекст совершается у него по трем основным направлениям.
Отношение к власти. Цари суть помазанники[181], пастыри[182] и кормители Церкви (все термины взяты из Писания[183]). Источник почитания царей – страх Божий[184]. Впрочем, Писание применяется последовательно святителем Георгием не только для того, чтобы обосновать почитание власти, но и для указания на ее относительность и преходящесть (каковые рассуждения просто немыслимы у Феофана[185]): данная Богом, она однажды будет и упразднена Им, причем «не только тиранская и строптивая, но и благая и кроткая; а вместо того будет Бог всяческая во всех. Он избранным Своим будет и царь и князь, и градоначальник, и военачальник, и отец и мати, и брат и сестра»[186]. Поскольку же власти суть первейшие учители добру и злу, постольку суть и «первейшие боляре» на небе или в аду.
Отношение к истории. Историческая проповедь у святителя Георгия обязательно предваряется «библейским зачином», задающим определенный угол зрения. Таково его уже упоминавшееся Слово в день равноапостольных Константина и Елены или Слово в день памяти св. блгв. князя Александра Невского. Писание устанавливает здесь не достоверность событий, но их масштаб и смысл. Отсюда, очевидно, потребность приложения того же мерила к событиям современности. Такова его речь 1773 года по случаю первого раздела Польши, вернувшего Могилевскую епархию в состав России:
«Находясь я ныне между сим народом, нахожусь, кажется, между Израилем от Египта исходящим, между пленом Сионским от Вавилона возвращающимся, между христианами времен Константиновых. И сей народ ныне, то совокупясь в радостные собрания, друг друга приветствует: поим Господеви, славно до прославися (Исх 15. 1); то хваляся соседам своим, псалом оный гласит: возвеличил есть Господь сотворити с нами: быхом веселящееся. Сеявше некогда слезамирадостию ныне жнем (Пс 125. 3, 5); то воздевая руки к Небу, восклицает новозаветную песнь: Благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людем Своим; посетил есть нас восток свыше (Лк 1. 68, 78)! Не влагаю я во уста сим людям таковыя песни по свободе риторов: вложили оныя, паче же и родила и во устах и в сердцах их самая причина торжества…»[187]
Отношение к христианской жизни. Определенней всего обнаруживаются библейские связи на уровне нравственном, где прежде всего и сказалось разрушение традиционных форм церковности. Эти параллели естественно продолжают тему истории: «Приди же в чувство и разсмотри себе, о тые народе, новаго Израиля имя на себе носящий! Не тыя ж ли беззакония и в тебе царствуют, которыя царствовали в древнем Израиле во времена пророческие?»[188] Или: «…не наш ли город подобен сему Иерусалиму, смутившемуся о Рождестве Христовом?»[189] Очевидно, святитель вполне серьезно относился к своему утверждению о том, что через него будут беседовать со слушателями сами библейские пророки. «Жестокое» пророческое слово он, не обинуясь, адресует своему граду, подобно древнему Иерусалиму, наполненному «великими болярами, просвещенными законоучителями, брюхатыми фарисеями»[190].
Святитель настаивает на необходимости прежде всего сердечной веры[191]. Обретший ее и живущий по правде Божией человек не страшится ни земной власти, ни вечности. Он и в халупе помнит, «что сам есть храм Бога, живущаго в нем, и что Бог вместе с ним в той бедной халупке живет»[192], что явленная в этом мире «капля славы Фаворской» однажды прольется целым морем и что вкус царствия Божия, как бы «эссенция грядущаго века», ощутим уже здесь «в правде и мире, и радости о Дусе Святе»[193].
Следует отметить еще, что в античных реминисценциях место Феофановых Помпеев и Сципионов у святителя Георгия занимают Сократ и Платон, как учители именно сердечного очищения[194], и это достаточно важный момент для будущего развития русской мысли. Но о Церкви в своих проповедях святитель не говорит ничего, хотя сама святая жизнь свидетельствует, что интуиция Церкви несомненно присутствовала у него во всей необходимой полноте.
Итак, святитель Георгий основывается на заложенных Феофаном принципах школы: слово Писания является основополагающим источником его богословия. Представлением о необходимости «внутреннего слова» он стремится заполнить разрыв при переходе от божественного богословия к человеческому, почерпнув самый термин (в данном его значении), скорей всего, у пиетистов[195]. В то же время он ограничивает роль научного богословия как единственного источника богопознания. Осваивая открытое Феофаном поле богословия, святитель Георгий сосредоточен прежде всего на прямом соотнесении библейского Слова с различными сторонами церковной жизни, с одной стороны, и осознании необходимости личного, «внутреннего» христианства – с другой. Не всегда просто определить, насколько далеко его библейские параллели выходят за рамки риторики, но два момента у него очевидны: историзм мышления и стремление подвести под него библейское основание. Собственно экклесиология остается у него неразвитой.