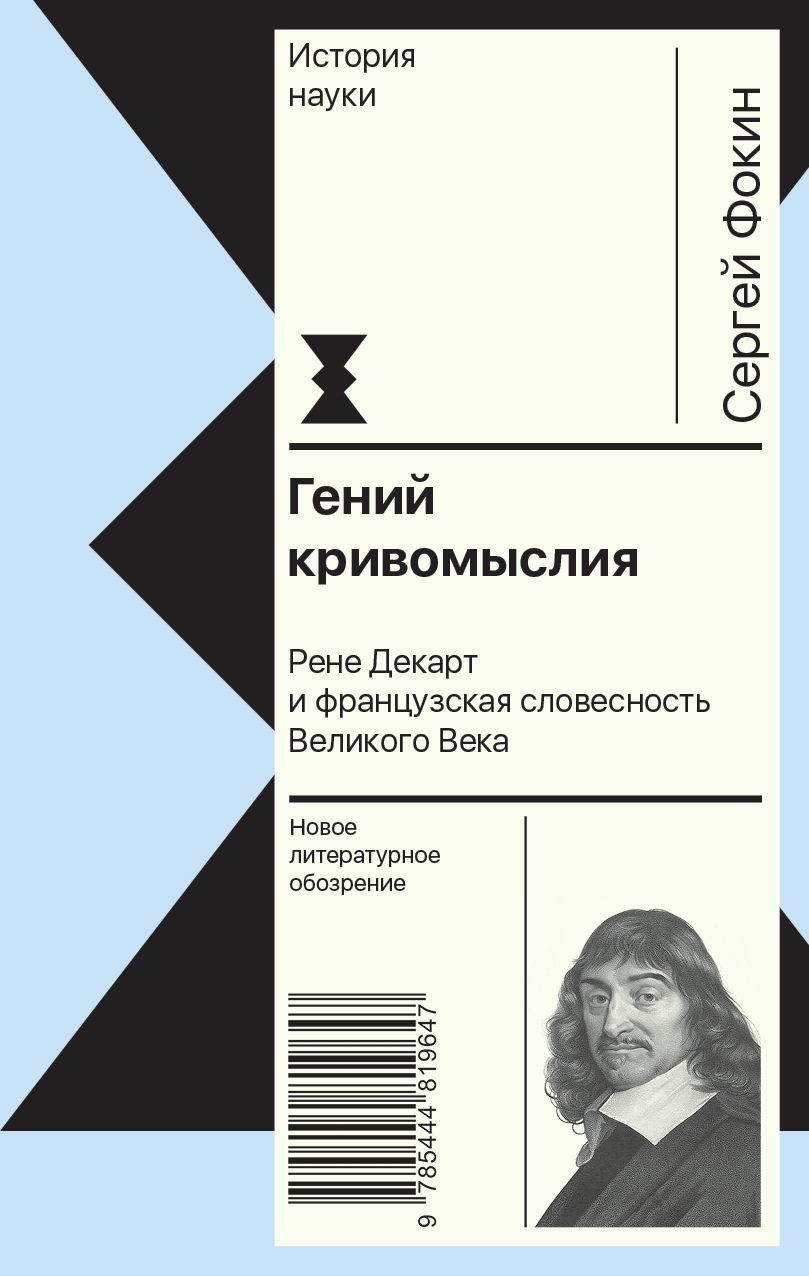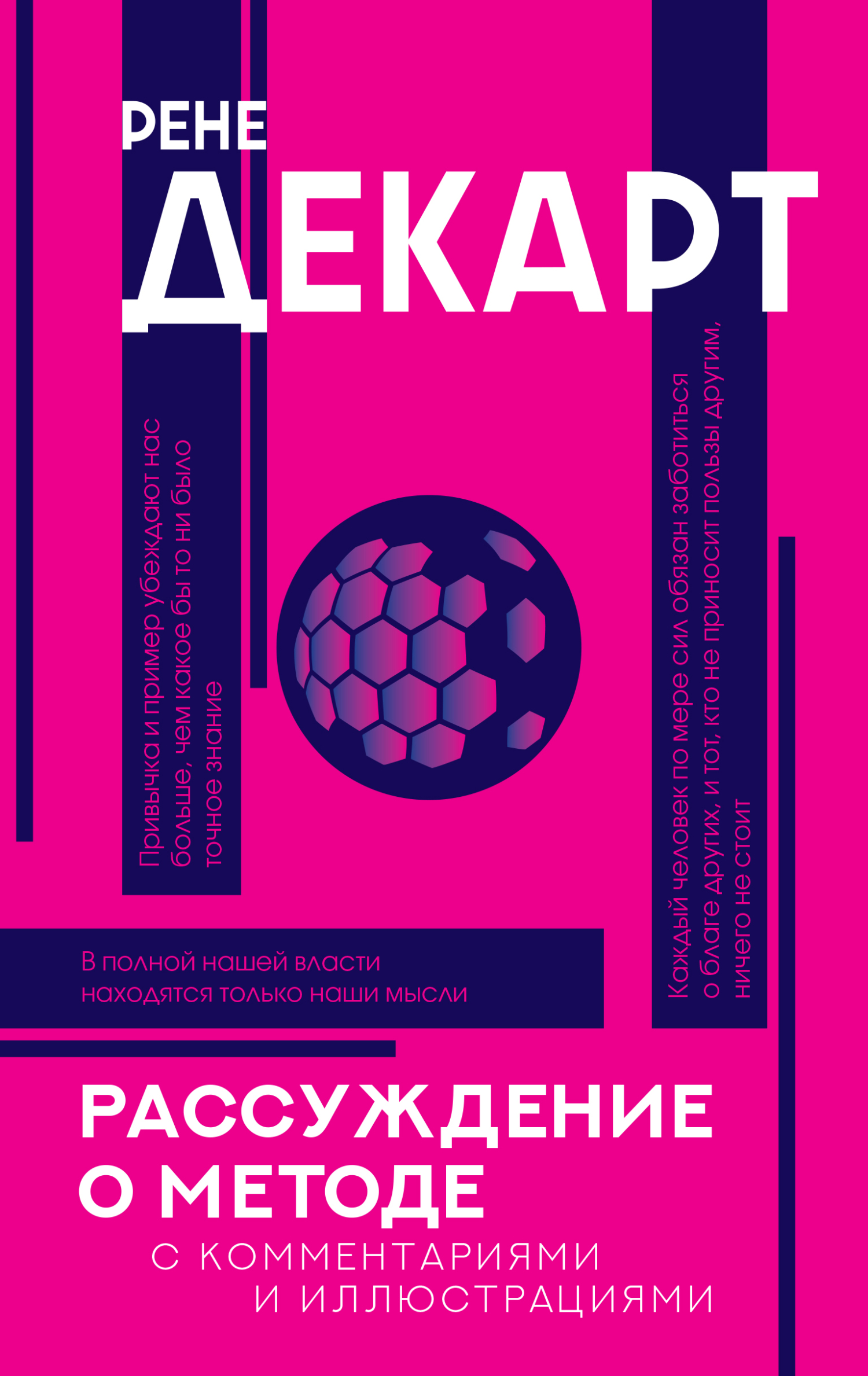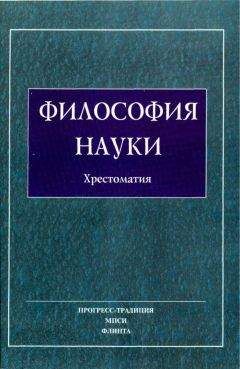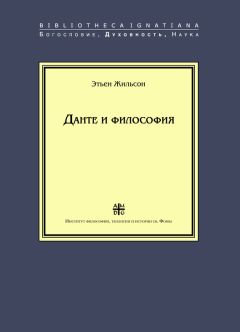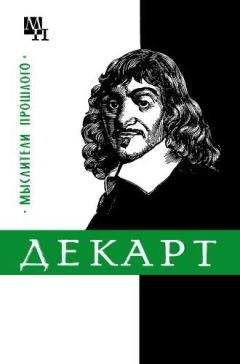Избранное: Христианская философия - Жильсон Этьен
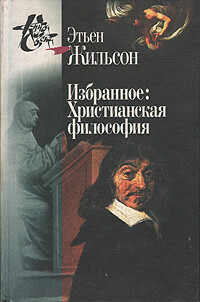
Помощь проекту
Избранное: Христианская философия читать книгу онлайн
Термин «упадок», если его употреблять по возможности в нейтральном смысле, в сущности, означает, что вопрос, который был центральным и основным для философии при ее рождении и расцвете, а именно вопрос о бытии, в дальнейшем оказывается в тени совершенно другого вопроса, который все больше выходит на первый план: «что изначально в бытийном?» Как если бы существующее, в результате греческой постановки вопроса везде воздвиглась бы перед бытием как невидимая стена, все более и более отделяющая нас от него. «Как преодолеть эту стену? Стучать в нее бесполезно: думаю, что ее можно только исподволь разрушать». То, что Ван Гог сказал об искусстве рисунка, совершенно верно и для метафизики. Но христианство вмешивается в философские дискуссии на довольно позднем этапе, когда стена бытийного, поначалу преодолеваемая мыслью с такой легкостью, как сказал бы Шар в своих «Утренних стихах», довольно решительно загораживает доступ к бытию, с тем чтобы любой метафизический вопрос сводился в основном к поискам того, что является изначальным в бытийном. И получает развитие сначала в патристике, затем у арабов и, наконец, на европейском Западе то, что Э. Жильсон очень правильно называет «Теологиями Ветхого Завета» («L'Ètre et l'essence», p. 62), каковые плавают между приписываемой аристотелизму «необходимостью», которая сохраняет только монотеизм из Ветхого Завета — как у Авиценны — и интерпретациями творения, оставляющими место для случайного, даже допуская, что мир может быть вечным, — что вовсе не было абсурдным для св. Фомы.
Итак, было бы ошибочно думать, подобно Хайдеггеру, что христианство повинно в том, что он называет «забвением бытия», ибо такое забвение, если оно характерно для эпохи «Упадка» и «Заката» Запада, свершилось задолго до христианства, которое по-своему воспользовалось им, обратившись к «философствованию в вере». Здесь, возможно, было бы уместным указать, что всегда неоднозначные высказывания Хайдеггера, когда он затрагивает отношения философии и христианства, отталкиваются от трех условий, которые, не вдаваясь в подробности, можно представить в виде следующих трех тезисов.
1. Даже греческая философия проделала свой короткий путь, — составивший, однако, более половины всего пути, каковой представляет собою более чем двухтысячелетняя история философии, — под знаком упадка, забвения бытия.
2. На всем протяжении этого пути ничто из того, что блистало вначале, не было полностью утрачено, даже там, где иудеохристианское прославление бытийного под скипетром Божьим означало, что заново поставлен вопрос о бытии. Таким образом, на рубеже XIII–XIV вв. никто так решительно, как Дунc Скот, не устремился на поиски «изначального» (primum) или, скорее, «Первейшего» (Primus) в качестве конечной цели философии. Но никто так решительно, как Дунc Скот, не считал, что ко Первейшему (Primus) дорога должна была быть проложена, начиная с esse[1243] и даже с esse tantum[1244].
3. То, что было утрачено в ходе развития современной философии, стремится вернуться, как будто вновь слышится зов забытого источника сквозь стену забвения, но, по крайней мере до Хайдеггера, этот зов не был услышан. Знаковым в этом смысле здесь является кантовский сдвиг, о котором Хайдеггер говорил в 1929 г., что истинный смысл его «коперниканской революции» состоит в «перемещении проблемы онтологии в сторону центра» («Kant und das Problem der Metaphysik», § 3).
Такова, согласно Хайдеггеру, die Lichtungsgeschichte des Seins[1245] («Identitat und Differenz», S. 47), «назначение бытия, открывающееся в просветах», о котором впервые говорится в «Sein und Zeit», хотя в этой книге, вышедшей в 1927 г., бытие еще не мыслится как загадка, и о Seinsvergerssenheit, «забвении Бытия», там еще ничего не говорится. Именно забвение бытия сделало возможным прямое вмешательство христианской догматики в философию, начиная от патристики и до наших дней. Но онтотеологический характер метафизики, который, начиная с Аристотеля, определяет стиль философии, зависит от забвения бытия, а не от принятия этой догматики. Вместе с тем факт принятия ее не является простой исторической случайностью. Согласно Жильсону, если с окончанием Средневековья и схоластики «можно видеть неотступное влияние библейского Бога-творца на воображение классических метафизиков («L'esprit de la philosophic medievale» I, 17), тогда как греческая философия, к удивлению великих схоластов, совершенно Его игнорирует. Это объясняется тем, что что-то неуловимо изменилось в отношениях человека и бытия. Греками бытие воспринималось как «присутствие», прототипом которого Аристотель считал отдохновение от творчества (ενεργεία). А из Рима подул ветер могущества и действия, требующий осмысления и отображения в языке. Тогда в истории мира создается новое, когда «происходит своевременная встреча языков исторических носителей» («Holzwege», S. 342). С этого момента средневековая философия в сокровенной своей части, связывающей ее с Библией, становится поистине римской философией, ибо немалый вклад смогли внести римские философы, которые, как утверждает Кант, «были всего лишь учениками». Так называемые «схоласты» мыслили гораздо смелее, чем это подобает ученикам. Вот почему Хайдеггер мог сказать в 1956 г. («Der Satz von Grand», S. 136): «To, что, по мысли Аристотеля, определяет бытийное в его бытии и как именно это происходит, на самом деле совершенно отличается от средневековой доктрины ens qua ens[1246]. Было бы еще экстравагантнее думать, что средневековые теологи плохо поняли Аристотеля; скорее, они поняли его иначе, в соответствии с их желаниями, чтобы бытие предназначалось им». Выходит, что в Средние века изменилось само бытие? Конечно, это так. И именно это определяет в полном объеме то, что Хайдеггер называет «романизацией греческого», которая, по его мнению, вместе с «картезианским превращением знания об истине в точное знание» является одной из invisibilia[1247], самой решающей в западной истории.
Это изменение «бытия» отвечает уже опыту святого Августина, когда, в период создания «Исповеди» (книга X) он слышит, как сами вещи exclamare voce magna: Ipse fecit nos[1248] — там, где Аристотель, напротив, вспоминая демиургию из Тимея (диалог Платона) («Метафизика», IX, 991 а, 22–23), степенно заявлял: «Где когда-нибудь видели что-либо подобное?» Но что же означает эта непреодолимая тяга человеческой мысли к Богу, власть которого над миром такова, что он создает его ex nihilo[1249], и дозволяет, чтобы creatimi[1250] в глубине своей заговорило о бытийном, которое не есть Бог? Разве не сказал, с другой стороны, Творец Неба и Земли своему человеческому созданию, указывая на землю: Subjicite earn[1251]? Ревностный защитник θεός παντοκράτωρ[1252] готовится ли стать тем, кого Курно намного позже назовет «концессионером планеты»? («Considerations», II, 203). Не в этом ли тайный смысл «иеговизма», о котором Курно в другом месте говорит, что только он совместим с математическим замыслом природы, увидевшим свет лишь в XVII в.? Можно предположить, что подобные мысли не чужды Хайдеггеру независимо от воздействия Курно. Осенью 1953 г. он ставит «вопрос о технике», в которой видит реализованной, прямо ее не называя (но мне он говорил о ней в ходе нашей беседы на Пасху в 1951 г.), доктрину сотворения некоей Zwischenstute, «Промежуточной ступени», переходного этапа от мира, каким он представляется греческой мысли, и Weltbild, «картиной мира», характеризующей период времени, когда человек захвачен мечтой «стать хозяином и обладателем природы». Христианская философия смогла разобраться с этим только наполовину. В период после Первой мировой войны Ж. Маритен увидел человека Современной Эпохи «изнемогающим под чудовищными колесами испорченной земноводной машины» («Trois Réformateurs», p. 91). Но Маритен не призывает просто вернуться к началу. Согласно Хайдеггеру, выход не в том, чтобы перейти от одного Владычества к другому, т. е. от господства человека-хозяина и властелина природы к «господству Христа над всем космосом» (Жан Даньелу, «Figaro Litteraire» от 22 апреля 1961 г.), а в том, чтобы вернуться от «всякого» Господства к более сущностной «не-власти», которую Хайдеггер называет «мышлением бытия».