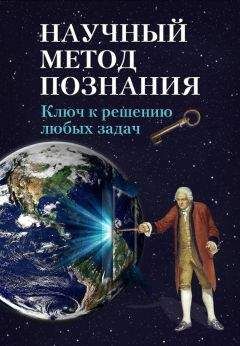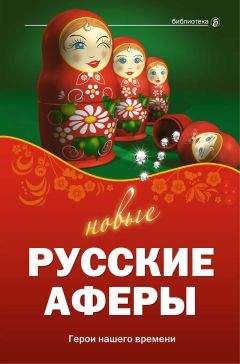Людмила Иванова - Персонажи карельской мифологической прозы. Исследования и тексты быличек, бывальщин, поверий и верований карелов. Часть 1
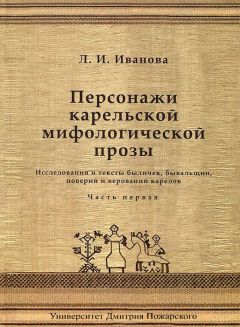
Помощь проекту
Персонажи карельской мифологической прозы. Исследования и тексты быличек, бывальщин, поверий и верований карелов. Часть 1 читать книгу онлайн
P. I. – Šykyšyllähän ne kellot heitetäh pois kaklašta.
J. I. – Ka no še onki Kekrin päivä, še, siinä šyyštalvešta.
Е. И. – Да я не знаю, что говорили. Но слышали, что был день Кегри. Был, был. Старики говорили. Ещё говорили, что Кегри, он колокольчики сбросит у животных с шеи. На Кегри надо снять колокольчики с шеи. Это я помню, но не знаю, когда он /Кегри/.
П. И. – Осенью эти колокольчики снимают с шеи?
Е. И. – Да, это и есть день Кегри, осенью, перед зимой.
ФА. 2328/23. Зап. Ремшуева Р.П. в 1975 г. в д. Луусалми от Савиной Е. И. и Кирилловой П. И.
Пугали, что Кегри придёт3
Kegrie mainittih, kuulin, mistä mainittih: Kegri, Kegri tulou, Kegri tulou. En tiijä, mimmoni še oli Kegri… Pöläteldih: Kegri tulou… En uroa sanuo, oligo hän sygyžyllä vain kežällä, vain millä aigua se Kegri käveli… Oli, oli, muissan, Kegrie mainittih, jotta Kegrin päivä on. No oldih ne kaikki yksityizenä, mainittih, konža jedinolično žiili. Niidä Kegrin päivie šilloin piettih…
О Кегри вспоминали, помню, говорили: Кегри, Кегри придёт, Кегри придёт. Не знаю, какой он, Кегри. Пугали: Кегри придёт… Не могу сказать, был ли он осенью или летом, или в какое время Кегри ходил… Был, был, помню, о Кегри упоминали, что есть день Кегри. Но обо всём этом говорили, когда единолично жили. Тогда день Кегри отмечали…
ФА. 2946/4. Зап. Конкка А. П. в 1986 г. в д. Реболы от Ивановой И. И.
Святочные персонажи карелов
Благодаря длительному промежутку времени (прошло уже более семи веков с начала крещения карельского народа) и удачной тактике православной церкви христианские праздники прочно наложились на праздничные даты, которые приходились на это время по народному летоисчислению. Дни поминовения православных святых и праздники, связанные с событиями Священного Писания, оказывались соединенными с традиционными работами сельскохозяйственного годового цикла. Обряды и обычаи, приуроченные к церковному празднику, зачастую связывались с дохристианскими верованиями, заключали в себе остатки древних магических ритуалов, традиционных жертвоприношений, призванных обеспечить хозяйственное и жизненное благополучие крестьянства. Образы различных святых слились с образами языческих божеств и тотемов. К примеру, у русских сохранились свидетельства о «скотьем боге» Велесе, поклонение которому православная церковь заменила днем святого Власия, а из него народ в свою очередь сделал покровителя тех же домашних животных. У карелов был аналогичный праздник Vallasien päivy, когда совершались различные обряды, способствующие спокойствию и плодовитости скота.
В Карелии больше всего мифологических рассказов, связанных с праздниками, посвящено зимним Святкам. Это было самое сакральное, самое таинственное время года, когда в соответствии с народными верованиями вся нечистая сила могла свободно передвигаться по земле. Специально для умерших предков разводились костры, чтобы они могли прийти погреться у их огня, а потом в трудную минуту помочь живущим. Именно в это время ходили ряжеными (kummat, huhl’akat), царила смеховая культура (М. Бахтин), и все это было наполнено, прежде всего, религиозно-магическим содержанием. В этот временной промежуток снились вещие сны («priboi unet»), а люди ходили слушать Сюндю (Syndy) и Крещенскую бабу (Vierissän akka), которым «принадлежала вся земля» (Synnyn muan aigu) и было известно будущее. Весь этот святочный период завершался купанием в освященной проруби, как в библейском Иордане (Jordanu), благодаря чему прощались все человеческие прегрешения.
Святки (это период с Рождества Христова, 7 января, до Крещенья Господня, 19 января) – совершенно особый, главный праздник годового цикла. Как пишет В. И. Топоров, «это состояние, когда время останавливается, когда его нет…Старый мир, старое время, старый человек „износились“, и их ожидает распад, смерть…В таких условиях спасти может лишь чудо, равное чуду первотворения, когда хаос побежден и установилась космическая организация. Нужно идеально точное воспроизведение прецедента, того, что имело место „в начале“, „в первый раз“… Для этого… требуется определить то место и время, где состоится воспроизведение прецедента»[80]. Именно это ритуальное действо и происходит в сакральное время (Святки, полночь) и в сакральном месте (перекресток, прорубь). Закрепляется все магией чисел, которым придавалось сверхъестественное, «космизирующее» значение. «Числа становились образом мира и отсюда – средством для его периодического восстановления в циклической схеме развития для преодоления деструктивных хаотических тенденций»[81]. Для того, чтобы пойти слушать Крещенскую бабу и Сюндю, требовалось не менее трех или пяти человек, их количество обязательно должно было быть нечетным. Вокруг слушающих трижды чертили круг (всегда по солнцу или дважды по солнцу и один против). Подчеркивало и увеличивало символичность цифр произнесение магического стиха-формулы «Что одно?» («Mikä yksi?»), в котором персонифицируется и одновременно продуцируется новое сотворение макрокосма (Млечный путь), первопредметов и микрокосма (человек).
О Syndy и Vierissän akka записано достаточно большое количество быличек (правда, их сюжетное разнообразие невелико). О них и сегодня с удовольствием повествует практически каждая старая карелка.
Попытку обрисовать контуры ареала бытования обоих персонажей предпринял А. П. Конкка36. Сюндю – персонаж южных карелов, ливвиков и людиков. Ребольские и сегозерские карелы еще рассказывают о нем, но связан он уже с водной, а не с небесной стихией (поднимается из проруби), и Святки называют уже по-севернокарельски (Виериссян кески или вяли). На севере Карелии (Лоухский, Калевальский и Беломорский районы) бытует образ Крещенской бабы; южная граница бытования этого термина практически совпадает с границей бывших Олонецкой и Архангельской губерний, разделявших ранее Карелию на две части по линии восток-запад, и идет в восточном направлении, захватывая Юшкозеро и Панозеро, но обходя тунгудских карел с севера. На самом севере Ребольской волости встречается еще один переходный персонаж – Баба Сюндю (Synnyn akka).
По всей видимости, карельских святочных персонажей можно поставить в одну параллель (именно параллель, а не ряд, т. к. различия очевидны) с русскими Святке и шуликунами, с немецкими «Диким охотником» и Хаккельбергом, фрау Холле, австрийской Перхтой, с итальянской феей Бертраной и французским Пер Ноэлем. Четыре последних образа уже, конечно, очень близки к христианизированным персонажам Санта-Клауса (св. Николая), св. Люции, св. Мартина, но, хотя они выступают в основном в качестве дарителей для детей, в них, как и в самых древних образах, присутствуют и положительные, и отрицательные черты.
В конце XIX века мифологические рассказы о нечистой силе в Петрозаводском уезде собирал А. Георгиевский. Вот что он писал о Святке: «Между всей этой чертовщиной есть еще нечистый дух, это Святке. Появляется он на второй день Рождества Христова, а в крещенский сочельник после вечерни его уже нет на земле. Этот может и добро делать, но больше делает добра по своей оплошности, и может вред принести человеку, по оплошности человека. Он может превращаться в человека, даже может быть его двойником, принимает иногда вид животных.
Про него существует много рассказов, но прежде должен сказать, что он не может даже перешагнуть черты на снегу и полу, проведенной чем-либо железным. Ходят в Святки слушать, делают около себя круг, на несколько сажен в диаметре, проводя, чертя чем-либо железным, тогда Святке ходит около черты, а в круг пойти не может»[82].
Карельские мифологические образы Syndy и Vierissän akka схожи со всеми этими святочными образами, распространенными по всей Европе, но все-таки занимают несколько иную нишу в народном представлении и сохранили в себе весьма глубокую архаику.
Крещенская баба
В первую очередь следует остановиться на правильном толковании и переводе слов Vierissän akka и Vierissän keski. Он важен не только в языковом, но и в этнографическом, и даже шире, в ментальном отношении. Часто их переводят, ориентируясь на русский язык, как Святочная баба и Святки. Это не совсем верно. Vierissän keski (Vierissä, Vieristä, Vieristy), безусловно, воспринималось карелами, как святочное, сакральное время года. Но в обоих этих названиях подчеркивается как бы приоритет Крещения перед Рождеством. Vieristy – это Крещение. Следовательно, Vierissän akka – это Крещенская баба, а Vierissän keski – это Крещенский промежуток. То есть, северные карелы, восприняв многие православные обряды путем наложения на древние языческие, тем самым подчеркнули большую значимость Крещения. Рождество – это день рождения Иисуса, день, в который Бог отправил на землю Спасителя. Он своим рождением, а затем мученической смертью взял все грехи людей, поверивших в него, на себя. Древним карелам было трудно это понять, т. к. они считали, что заслужить отпущение грехов у своих многочисленных богов можно лишь различными жертвоприношениями и магическими обрядами. Принять спасение таким легким способом, которое предлагало Рождество, просто через веру, было трудно. Гораздо более близким и понятным оказался обряд водного крещения. Во-первых, сам обряд омовения – очищения водой уходит корнями в язычество. Об этом пишет автор Густынской летописи, сообщая, что до сих пор продолжают поклоняться языческим богам: Хорсу, Дажбогу, Стрибогу, Семарглу, – которых он называет бесами: «въ день пресветлого Воскресения Христова, собравшеся юнии и играюще, вметают человека въ воду, и бывает иногда действомъ техъ боговъ, си есть бесовъ, яко вметаемый во воду или о дерево или о камень въ воде разбиваются и умирают, или утопают; по иныхъ же странах не кидаютъ въ воду, но токмо водою обливають, но единаче тому же бесу жертву сотворяют»[83]. Те же языческие, так называемые летние Святки (Veändöi), время разгула, предания греху, заканчивались всеобщим купанием в реке. После принятия христианства этот обряд осуществлялся зимой, в самые лютые Крещенские морозы, 19 января, в последний день пребывания Vie-rissän akka на земле. Для этого нужно было проявить собственную смелость и продемонстрировать перед Богом большое желание смыть с себя грехи. Назывался он «kävvä Jordanah» («ходить в Иордан»), Человек прыгал в воду, освященную служителем веры, а потом прямо в рубашке или ферези, мокрый, бежал звонить в церковные колокола (безусловно, это уже влияние библейского сюжета о крещении в р. Иордан, в том числе Иисуса Христа). Название самого праздника Vieristy произошло от слов vezi ristu, vein ristu, т. e. крещение, освящение воды (букв.: водный крест).