А. Злочевская - Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков
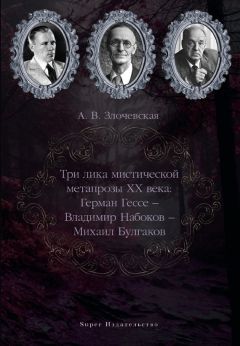
Помощь проекту
Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков читать книгу онлайн
«Ведь это небрежность, – раздраженно бросает ей Цинциннат. – Передайте бутафору» [Н., T.4, c.126][74].
В обоих случаях – странная, неправдоподобная в данной ситуации обувь. Потусторонние силы пытаются создать иллюзию реальности, но допускают промах – мелкий, на первый взгляд, но разрушающий иллюзию правдоподобия сотворенного мира. «Вторая» реальность оказывается состряпанной «наспех», возникает эффект «плохого» искусства. Различие в том, что у Булгакова инобытийна реальность мистическая, а в «Приглашении на казнь» – миражно-физическая.
Инобытийная бутафория в декорациях «Приглашения на казнь», как и в приведенном эпизоде у Булгакова, восходит к эстетике Н. Евреинова, экспериментами которого в области драматургии Набоков был увлечен[75], а М. Булгаков по крайней мере с ними знаком[76].
Наконец, третья сторона треугольника – Г. Гессе и М. Булгаков – еще менее очевидна, тем более что знакомство этих писателей с произведениями друг друга крайне маловероятно, практически исключено.
Правда, современный автор С. Фаизов убежден, что в
«текстах романа Булгакова виден ряд мотивов <…>, которые допустимо рассматривать как реминисценции фрагментов классического текста Гессе»[77].
Однако при внимательном рассмотрении этимология отмеченных С. Фаизовым общих у Булгакова с Гессе мотивов – убийства невесты на свадьбе и ножа, светящейся надписи, «живых шахмат» – почти во всех случаях оказывается различной. Так, у Гессе мотив убийства невесты на свадьбе и ножа образуют единый комплекс и оба являются явной реминисценцией из «Идиота», в то время как образ-мотив ножа у Булгакова вполне самостоятелен, как по семантике, так и по функциональной нагрузке. Образ живых шахмат Булгаковым заимствован из повести В. Ирвинга «Легенда об арабском звездочете»[78]. Ее, надо полагать, знал и Гессе. Что же касается мотива светящейся надписи, то она, конечно, из Библии: роковые письмена, вспыхнувшие на стене в роскошных палатах вавилонского царя Валтасара и предрекшие его скорую, внезапную гибель: «Мене, мене, текел, упарсин» (Дан. 5).
Собственно небрежность автора при построении параллелей не стоила бы упоминания, если бы в статье С. Фаизова не была допущена серьезная и достаточно распространенная методологическая ошибка. Дело в том, что сам по себе факт межтекстовых перекличек на уровне образов, мотивов, приемов и сюжетных ходов вовсе не доказывает факта творческого влияния одного писателя на другого. Необходимы факты, подтверждающие как минимум знакомство с произведениями друг друга. С. Фаизов исходит из того общего соображения, что Булгаков не мог не знать «классика» Гессе. Однако в 1920-е—1930-е гг., когда М. Булгаков сочинял «Мастера и Маргариту», «Степной волк», написанный в 1927 г., еще не успел стать «классическим текстом». Нобелевская премия была присуждена Гессе лишь в 1946 г. При жизни Булгакова в Советской России «Степной волк», как и его автор, не был известен. Во всяком случае, никаких данных у нас на этот счет нет, а творческие контакты между советскими и европейскими писателями в Советской России, в силу ее культурной изоляции, были, как известно, в высшей степени затруднены.
Поэтому, если в случае В. Набокова типологические переклички его произведений со «Степным волком» свидетельствуют о знакомстве с этим романом, то в случае с М. Булгаковым они не свидетельствуют ни о чем, кроме факта филиации художественных идей в рамках единого литературного явления или процесса.
Все совпадения и переклички между художественными стилями Г. Гессе, В. Набокова и М. Булгакова – лишь вершина айсберга. Подводная его часть – глубинное родство писателей в рамках мистической метапрозы XX в.
И последнее замечание. Предоставленный наследием Г. Гессе, В. Набокова и М. Булгакова материал для анализа несопоставим по объему: это практически все творчество Набокова – от «Защиты Лужина» до «Посмотри на арлекинов!», с одной стороны, и лишь «Степной волк» и «Игра в бисер» Г. Гессе, «Театральный роман» и «Мастер и Маргарита» М. Булгакова – с другой.
Поэтому я сосредоточусь на сравнительно-типологическом анализе «Степного волка», «Дара» и «Мастера и Маргариты», как наиболее ярких образцах металитературной версии мистического реализма XX в.
Глава I. «Фиктивная реальность» или «Реальность фикции»?
Основные принципы эстетики мистической метапрозы XX в. нашли свое выражение во взглядах Гессе, Набокова и Булгакова на искусство. При этом креативно – эстетические концепции писателей типологически схожи, хотя различны их дискурсы: это критико-литературоведческий у Набокова (лекции, интервью, статьи), а также отчасти у Гессе (эссе и статьи об искусстве вообще и о писателях в частности), и непосредственно художественный, в самой творческой практике у Булгакова.
Как индивидуальные стили писателей, так и эстетическая концепция искусства каждого из них обнаруживают явные признаки металитературности.
Одно из базисных положений эстетики метафикш – признание паритетных отношений между двумя реальностями – мира физического и художественного.
Острое переживание иллюзорности и призрачности физического бытия свойственно Набокову и осмыслено в его стратегии писателя-творца.
«Реальность – вещь весьма субъективная, – сказал писатель в Интервью Би-би-си 1962 г. – Я могу определить ее только как своего рода постепенное накопление сведений и специализацию. Можно, так сказать подбираться к реальности все ближе и ближе; но все будет недостаточно близко, потому что реальность – это бесконечная последовательность ступеней, уровней восприятия, двойных донышек, и потому она неиссякаема и недостижима <…> Стало быть, мы живем в окружении более или менее призрачных предметов» [Н1., T.2, c.568].
«Реальность», подчеркивал он, вообще «странное слово, которое ничего не значит без кавычек» [Н1., T.2, c.379], ибо мир материальный не существует вне субъективно-личностного восприятия человека.
Автору «Дара» был чужд сам принцип реалистического творчества. И это понятно: новое искусство, металитература в том числе, уже не может
«следовать вековым канонам мимесиса, делать вид и убеждать читателя, будто все в нем написанное – истинная правда, продолжение жизни, только выраженное типографскими литерами, упакованное в переплет и обложку»[79].
Эстетическая концепция Набокова антиреалистична по своей сути.
«Литература – это выдумка, – утверждал он. – Вымысел есть вымысел. Назвать рассказ правдивым значит оскорбить и искусство, и правду»[80].
«Роковой ошибкой» критиков и читателей считал Набоков привычку «искать в романах так называемую „жизнь“»[81]. Главный объект саркастических выпадов Набокова – теория реализма, а главный адресат полемики – критики и ими воспитанные читатели, желающие видеть в произведении искусства отражение «жизни», все те, кто думают почерпнуть из сочинений писателя полезную информацию о реальном положении дел, кто читает французские и русские романы, «чтобы что-нибудь разузнать о жизни в веселом Париже или в печальной России»[82]. Для автора «Дара» подобный взгляд на искусство – не что иное, как вопиющая пошлая чушь[83].
Истинное постижение произведения искусства предполагает четкое различение «фиктивной реальности» и «реальности фикции»[84].
Отсюда – характерная для мироощущения Набокова-художника параллель между приемами литературного сочинительства и приемами, «которыми пользуется человеческая судьба» [Н1., T.1, c.101]. Для Набокова сама жизнь обычно «бывает помощником режиссера» [Н1., T.3, c.188], то есть Сочинителя. Эта модель соотношения двух реальностей – «действительной» и сотворенной писателем – переносится в его художественный мир. Более того,
«в сопоставлении „жизнь – искусство“ именно жизнь отражает и копирует искусство, а не наоборот»[85].
Вспомним замечание Зины Мерц по поводу образа Чернышевского в романе ее возлюбленного, писателя Федора Годунова-Чердынцева: «подлинная его жизнь в прошлом представлялась ей чем-то вроде плагиата» [Н., T.4, c.384].
И у Гессе, в вымышленной реальности «Магического театра», самое страшное преступление – оскорбить «высокое искусство, спутав <…> прекрасную картинную галерею с так называемой действительностью», осквернив «славный мир образов пятнами действительности» [Г., T.2, c.395].
В своих статьях и эссе Гессе различал сочинителей трех уровней: Dichter – писатель-поэт, художник слова, творец, Schriftsteller – профессиональный литератор, Literat – графоман, эстетствующий писатель[86].

























