Джиллиан Тетт - Проклятие эффективности, или Синдром «шахты». Как преодолеть разобщенность в жизни и бизнесе
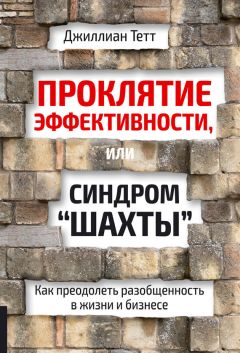
Помощь проекту
Проклятие эффективности, или Синдром «шахты». Как преодолеть разобщенность в жизни и бизнесе читать книгу онлайн
Так почему же мужчины не протестовали против столь трагичного положения? Почему просто не начали танцевать? И почему девушки не осознавали, что игнорируют половину мужчин? Действительно, почему люди вообще принимают системы классификации, сложившиеся в их социальной среде, особенно если эти нормы и системы потенциально вредны?
Танцпол послевоенного Беарна далек от мэрии Блумберга как в географическом, так и в культурном смысле. У стратегий брачного выбора мало общего со стратегиями деятельности банков. Но при этом французские крестьяне и нью-йоркские чиновники неразрывно связаны. Эти два мира – а также и другие социальные системы, которые когда-либо изучали антропологи, – объединяет одна общая черта: тенденция к использованию формальных и неформальных систем классификации и культурных правил для разделения мира на изолированные группы.
Для формализации этого процесса служат установленные системы подчинения и четко прописанные правила. Но зачастую подобное разобщение становится результатом тысячи мельчайших, казалось бы не имеющих значения культурных традиций, правил, символов и сигналов, которые мы едва замечаем, потому что они очень глубоко укоренились в нашей среде и нашем менталитете. Культурные нормы настолько неразрывно вплелись в нашу повседневную жизнь, а система классификации, которую мы используем, кажется нам столь естественной и неизменной, что мы редко подвергаем ее сомнению.
Присущий всем и каждому, процесс классификации является неотъемлемой частью жизни человека. Это одна из тех вещей, которые отличают нас от животных. Тому есть веская причина: ежедневно мы сталкиваемся с таким количеством трудностей, с которым наш мозг не мог бы справиться, если бы мы не создали определенный порядок, классифицируя мир по удобным фрагментам. Тривиальный, казалось бы, эксперимент с телефонными номерами помогает проиллюстрировать это.
В 1950-х годах Джордж Миллер[66], профессор психологии из Гарвардского университета, изучал функционирование кратковременной памяти телеграфистов и телефонистов. Исследование продемонстрировало, что человек, которому показали ряды цифр или букв, запоминает лишь ограниченный объем информации[67] в силу естественных пределов наших возможностей. Миллер полагал, что естественная граница лежит в диапазоне от пяти до девяти символьных знаков (data points), а средним значением является «магическое число семь». Позднее другие психологи предположили, что граничное значение приближается к четырем. Так или иначе, в заключении Миллера есть и важная оговорка: если мозг «учится» укрупнять единицы информации, объединяя ее в группы, как бы создавая ментальную картотеку, то человек сможет запомнить больше.
Итак, мы запоминаем числа, если представляем их как группы цифр, но не запоминаем, если для нас это просто непрерывные цифровые ряды. «Человек, который только начинает учить телеграфный код, слышит каждую точку и тире как отдельный элемент. [Но] вскоре он учится преобразовывать эти звуки в буквы… [затем] в слова, а это более крупные фрагменты данных, и [затем] он начинает воспринимать целые фразы[68], – объясняет Миллер. – Перекодировка – это крайне мощное оружие по увеличению количества информации, которую мы можем обрабатывать».
Подобное же правило применимо и к долговременной памяти. Психологи заметили, что наш мозг зачастую имеет дело с так называемыми мнемоническими приемами или ментальными маркерами (mental markers), благодаря которым мы группируем наши мысли и воспоминания по определенным темам, чтобы упростить запоминание. Это, так сказать, неврологический эквивалент создания тематических файлов в традиционных картотеках с цветными, легко заметными и запоминающимися ярлыками.
Иногда процесс группировки происходит сознательно. Но, по мнению психолога Даниэля Канемана, чаще всего человек делает это неосознанно[69]. В любом случае группировка идей позволяет нам устанавливать порядок и организовывать наши мысли. «Нельзя думать или принимать решения и тем более создавать новые идеи… без использования ментальных моделей для упрощения ситуации, – заявляют консультанты по вопросам управления Люк де Брабандер[70] и Алан Айни[71]. – Невозможно иметь дело с множеством сложных аспектов реальной жизни, предварительно не разобрав их „по коробкам“»[72]:[73].
Однако потребность в систематизации мира обусловлена не только внутренними мыслительными процессами людей. Социальное взаимодействие также требует общих систем классификации. Этим, по сути, и является язык, а именно – соглашением, заключенным людьми по поводу того, как и какие звуки будут отражать те или иные сегменты мыслей.
Помимо вербальных средств общения, в организациях и социальных группах существуют и культурные нормы, определяющие использование пространства, взаимодействие людей друг с другом, поведение и мышление. Важной частью принятых социальных норм и, возможно, даже центральным элементом «культуры» является общепринятая совокупность идей о том, как систематизировать мир и создать в нем ощущение порядка. Так же, как наш мозг нуждается в систематизации представления об окружающем мире для того, чтобы мы могли думать, общества нуждаются в общей таксономии[74], чтобы функционировать.
В XVII веке французский философ Рене Декарт[75] заметил: «Я мыслю, следовательно, я существую» (или на латыни и на французском языке соответственно: «cogito ergo sum» и «je pense, donc je suis»)[76]:[77]. Но в равной степени правдивым будет высказывание: «Я классифицирую, следовательно, я мыслю и являюсь социальным существом».
В то время как процесс классификации универсален, способ классификации таковым не является: различные общества используют множество различных систем классификации для организации представления о мире.
Они различаются даже по таким, казалось бы, универсальным вопросам, как природные явления. Теоретически люди должны видеть цвета одинаково. Мы все живем в одной вселенной с одним и тем же оптическим спектром, и у большинства из нас одинаковые зрачки (за исключением людей, страдающих дальтонизмом[78]). Но на практике человеческие общества классифицируют цвета неодинаково.
На протяжении десятилетий антрополог Брент Берлин и лингвист Пол Кей[79] изучали то, как языки мира описывают цвета[80]. Они обнаружили по меньшей мере семь различных подходов. Так, например, в Африке есть группы, которые делят мир всего на три цветовых сегмента (условно: красный, черный и белый), в то время как некоторые западные общества выделяют в пять раз больше категорий. Данное открытие подтолкнуло двух когнитивных антропологов[81] – Кэролайн Истмен[82] и Робина Картера (специалистов, анализирующих культуру и мышление) – к выводу, что хотя цветовой спектр объективно универсален, но то, как мы классифицируем цвета, – нет. «Цвет можно примерно представить в виде шкалы, на которой отражается излучение различных длин волн (оттенки цвета) и яркости, – пишут Истмен и Картер. – Каждому цвету соответствует участок этой шкалы, содержащий доминирующую длину волны, которая, как правило, определяет цветовой тон данного цвета. [Но] несмотря на то что восприятие доминирующей длины волны совпадает как между социокультурными сообществами, так и внутри сообществ, на границах [цветового диапазона] такого совпадения нет»[83].
Способы классификации других сторон мира природы также различаются. Птицы обитают почти во всех уголках планеты, но некоторые культуры относят птиц к животным и не выделяют их подвиды; в других же – ведется их подробная классификация. Например, английскому слову «seagull»[84] (наиболее многочисленный род птиц семейства чайковых) не так легко подобрать эквивалент на других языках.
Подобным же образом различные категории животных могут вызывать различные ассоциации в различных регионах. К примеру, Джаред Даймонд[85] наблюдал за тем, насколько по-разному в различных культурах мира формируется отношение к флоре и фауне. (Иногда Даймонд называет себя «экологическим антропологом», указывая на еще одну разновидность антропологии.) Например, ученый замечает, что в то время, как понятия «лошадь» во Франции или «кошка» в Китае ассоциируются с мясом, в Америке данные категории животных не относят к пригодным для употребления в пищу[86].
Классификации социальных отношений различаются еще больше. Стремление к продолжению рода универсально. Однако антропологи и лингвисты обнаружили, что существует по меньшей мере шесть различных систем терминов родства в обществах по всему миру (в антропологии культуры они известны как «суданская», «гавайская», «эскимосская», «ирокезская», «омаха» и «кроу» системы).

























