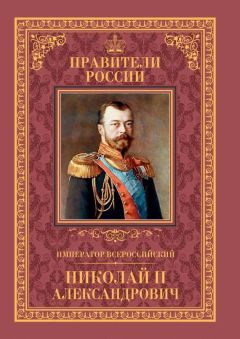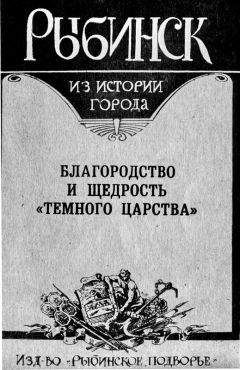Валентин Рич - Приключения словес: Лингвистические фантазии
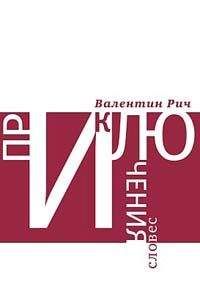
Помощь проекту
Приключения словес: Лингвистические фантазии читать книгу онлайн
И все доставляли прямо в руки адресату.
Жителям древних Киева и Новгорода или того же Булгара 36 граммов серебра не казались чрезмерной платой за почтальона, приносящего такие бесценные послания.
Тем более что наши прапрапредки очень любили переписываться. Это подтверждают находки в древних пластах новгородской земли, из которых были извлечены обрывки множества берестяных посланий.
Вполне может быть, что этой своей любовью они были обязаны не только крылатым почтальонам, но и бересте. Если б им приходилось пользоваться не таким легчайшем писчим материалом, а как римлянам — телячей кожей, уж не говоря о шумерах и ассирийцах, которые писали на глиняных табличках, то вряд ли переписка была бы столь оживленной.
Если цена голубя на первый взгляд оказалась для меня неожиданной, то само его присутствие в старинном документе рядом с домашней живностью все же не вызвало у меня внутреннего протеста. В редком московском дворе не встречал я в мои детские годы голубятни.
Иное дело — журавль. Не то что в городе, но и на природе он встречался мне считаные разы.
Журавля нынче можно увидеть разве что в зоопарке. А еще — в сказке, где действует лиса. Обычно она бывает самой хитрой: и колобка ей удается обмануть, и волка. Только журавль оказывается не слабей ее умом. Конечно, ему неудобно есть размазанную по тарелке кашу, но ведь и лиса не может просунуть голову в кувшин с узким горлышком. Тот, кто придумал эту сказку, несомненно, питал к журавлю немалое уважение.
И все же одно дело — уважать, а совсем другое — числить домашней живностью. Что журавлю делать на крестьянском дворе?
Обратившись к уже известным нам знатокам, Далю и Брокгаузу, я узнал еще одну важную подробность: издавна на Руси убить журавля считалось грехом, а это уже больше, чем просто уважение. Чем же заслужил журавль такое к себе отношение? Цаплю убить не грех, аиста не грех, даже лебедя — и то не грех.
А журавля — нельзя. Почему?
Ответ на этот вопрос мне посчастливилось найти в двенадцатитомной «Энциклопедии Южакова». На 419-й странице девятого тома я прочел: «В неволе Ж. обнаруживают большую привязанность к человеку, а также значительное развитие умственных способностей. В курятниках Ж. следят за порядком, разнимают дерущихся птиц; они пасут также скот не хуже овчарки и защищают вверенное им стадо против неприятелей».
Вот, оказывается, какой важной персоной был в древности журавль!
Но вернемся из Древней Руси к себе домой.
Где журавли, следившие за порядком в птичнике и пасшие скот не хуже овчарок?
Где лебеди, плававшие в любом пруду?
Где могучие туры?
Жизнь меняется незаметно, но быстро. Кто знает, сколько граммов или килограммов драгоценного металла будут готовы отдать наши внуки-правнуки не то что за живого жирафа, а за живого головастика?
Жизнь меняется быстро, и какой она будет завтра, зависит от нас.
Вспомним, в старинном тексте было две части. Мы занялись первой и прочли ее. Осталась вторая: «Передний идет, а задний, что найдет, не делится с передним, а передний делится с задним».
Когда мы только приступали к расшифровке, нам эти слова казались непонятными. А теперь?
Разве и мы — не передние? Разве и мы не обязаны поделиться с теми, кто идет за нами, всем, что нашли в этом мире? Всем, что еще осталось на нашей планете?
Воздухом и водой.
Деревьями и цветами.
Животными и птицами.
Всем, чем поделились с нами те, кто шел впереди нас.
Руза. Яуза. Вазуза.
Лебединая страна.
Отчего распались узы,
опустели стремена?
Отчего той дивной речи
отзвенели бубенцы?
Словно кости после сечи —
слов забытых останцы.
Где те люди? Где те кони?
Где потомки тех коней?
В опустелые ладони
льет потемки Водолей…
…Окровавленный подранок,
в милый край, где мирно рос,
прилетаю спозаранок
на последний чистый плес.
Нет на свете горше груза,
чем избытая до дна —
Руза, Яуза, Вазуза —
лебединая страна.
Сон и Смерть
Наши предки не отличали сон от смерти, а смерть — от покоя. Доказательства сохранились в языке.
Вместо «рыба умерла» до сих пор говорят — «рыба уснула», вместо «мертвая» рыба — «снулая». Гамлет, размышляя о «быть или не быть», произносит: «Умереть, уснуть». И многие выражения подтверждают эти уподобления. «Спи спокойно, дорогой товарищ», «Успение Божьей Матери», «И спал я вечным сном», «упокоиться», «покойник», «заупокойная молитва».
Кстати, слова «будить», «разбудить» произошли из слова «будь», которое, в свою очередь, произошло от слова «быть». То есть «будить» изначально подразумевало возвращать к жизни.
А когда верующий человек на похоронах молит Бога: «Упокой, Господи, душу раба Твоего», — то, желает, конечно, не смерти той душе, а успокоения.
Приключения недели
Случается так, что в языке сосуществуют два разных слова, обозначающих одно и то же явление. Так до сих пор в русском языке сосуществуют слова автомобиль и машина, шофер и водитель, летчик и пилот.
В любой такой паре одно из слов употребляется чаще, другое — реже. Как правило, постепенно выходят из массового употребления слова иноязычного облика, имеющие меньше однокорневой родни, более сложные для произношения.
Но иногда сосуществующие пары слов бывают образованы одинаково родными для языка словами. В этих случаях одно из них приобретает иной смысл.
А иногда другой смысл приобретали оба слова. Типичный пример представляет собой пара: праздник и неделя. Изначально слово праздник, образованное от прилагательного праздный, обозначало, как и слово «неделя», образованное из отрицательной частицы не и глагола делать, нерабочий день.
Какой именно день, сказать трудно. Мне представляется, что первоначально нерабочим днем и на Руси, как у евреев, была суббота. Недаром же конец работы еще и в наше время объявлялся словом шабаш, почти полностью повторявшим ивритское название субботы — шабат. Да и общеизвестная каторжная песенка: «Каждый знает — во субботу мы не ходим на работу, а у нас суббота каждый день», — намекает на то же самое. И скелетообразующий звук ш из всех чисел первой десятки присутствует в наименее изменившихся со временем индоевропейских языках только применительно к шестерке.
Наконец, еще одним, вероятно важнейшим доводом в пользу этого мнения, служит само появление второго слова этой пары — неделя, с самого начала относившегося не к шестому, а к седьмому дню семидневок, на которые без остатка делился лунный месяц. От того времени нам досталось слово понедельник для первого дня семидневки — дня после недели.
Когда вместе с христианством в Киевскую Русь пришел византийский календарь и седьмой день стал воскресеньем, слову неделя нашли новое применение. Даже существование понедельника не помешало. Уж очень, видимо, соответствовало менталитету местного населения объявление нерабочими всех семи дней. Хотя бы только по названию.
Почему славяне «славяне»
Нынешний район Москвы Лефортово, названый по имени одного из ближайших сподвижников царя Петра Первого голландца Франца Лефорта, до того именовался Немецкой слободой. Немцами на Руси называли выходцев не только из германских земель, но также из почти всех других — неславянских, расположенных на Западе. Вплоть до девятнадцатого века народы у нас различали по языку и обозначали именно этим словом. Нашествие Наполеона именовали нашествием «двунадесяти язык». Пушкин в своем знаменитом стихотворении писал:
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
А всех, кто не владел понятным языком, именовали немцами, то есть немыми. Или по примеру римлян, придумавшими слово «варвар» для окружавших Римскую империю народов, чья речь напоминала им невнятное бомотанье — «вар-вар-вар», все племена к востоку от Руси называли словом «татар». Так что организованное монголами «татарское нашествие» к нынешним казанским и крымским татарам не имеет никакого отношения. Казанские — это болгары («волгари»), крымские — хазары. В основном, конечно. Кстати, европейцы называли доскакавших до Адриатического моря азиатов не татарами, а тартарами. Варварвар — тар-тар-тар.
А для всех народов, не доросших до единобожия, в современном русском языке имеется «языковой» термин: язычники.
В соответствии с собственной речью этнически родственные «немцам» жители Древней Руси называли и себя. Дело в том, как мне представляется, что некогда согласные звуки слв, обозначавшие понятие «слово», в акающих говорах произносились вместе с гласными не о, но а. Вместо «слова» получилось «слава», обозначавшее то же самое понятие. До сих пор сохранилось выражение «дурная слава», обозначающее, что о ком-то отзываются, говорят плохо.