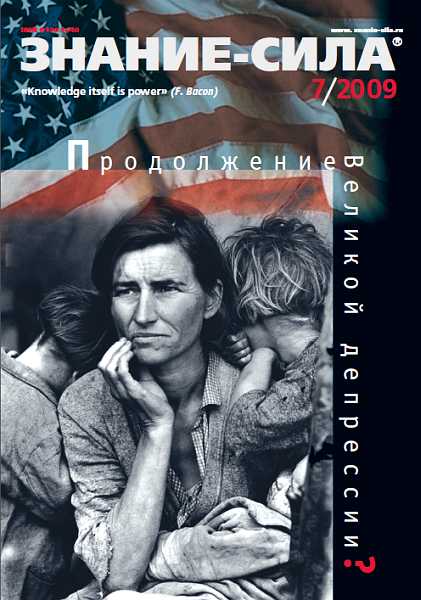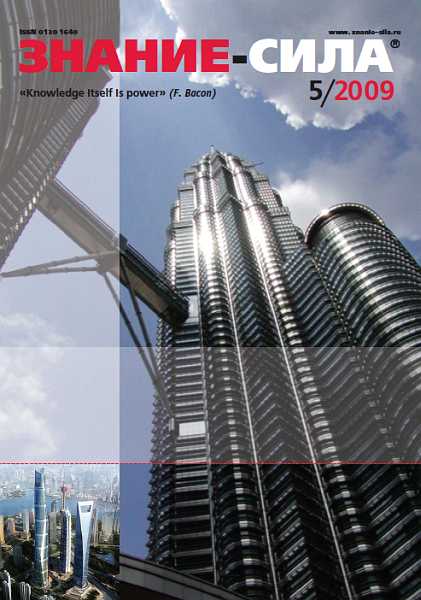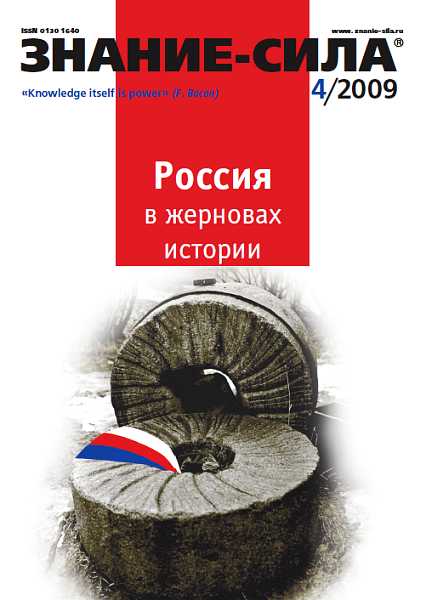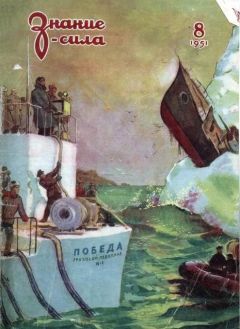Знание-сила, 2009 № 01 (979) - Журнал «Знание-сила»
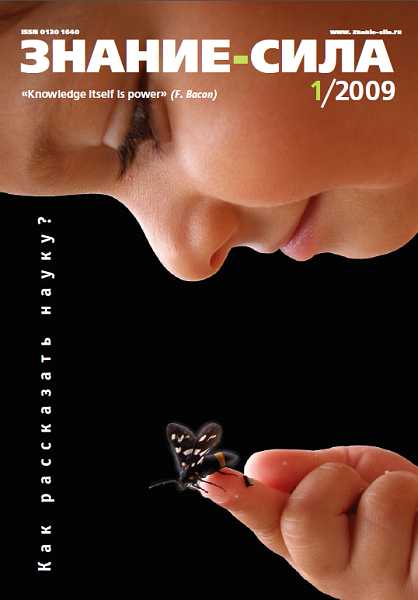
Помощь проекту
Знание-сила, 2009 № 01 (979) читать книгу онлайн
Отсюда следует ряд интереснейших выводов. Как пишет один из комментаторов, опыт Коэна, Харриса и Шеса подтверждает известную истину: соглашаться легко, сомневаться трудно. Когда я вижу то, что мне кажется верным, мне хорошо. Верное — красиво, верное — приятно. (Не отсюда ли принцип: истина прекрасна? Или расхожее мнение физиков — «правильная теория прежде всего стройна и изящна»?) Когда же мы видим то, что считаем неверным, нам становится хуже, мы не верим своим глазам, настолько нам неприятно. То же самое происходит, когда вообще не ясно, так это или не так. К чему все эти сомнения и внутренние конфликты? Проще поверить, чем проверить. Приятней согласиться, чем усомниться. Легче быть конформистом, чем скептиком.
Конечно, мы все это знали и раньше, но теперь это подтвердила наука. Мы поняли, что сама наша нейрохимия сформирована так, чтобы нас прежде всего, так сказать, «стихийно» тянуло к конформизму. Может быть, это проделки эволюции, в результате которых мы послушно ведем себя в стае, поскольку это увеличивает шансы на выживание, и поэтому она связала, фигурально выражаясь, слово «Да» с наградой, с выплеском допамина, с ощущениями приязни и спокойствия?
Вообще «нет» или «не уверен» — знаки несогласия и попытки думать, а химическим «наказанием» за это немедленно оказываются ощущения неприятия, неудобства и неуюта.
Впрочем, следует понимать, что нейрохимия — отнюдь не окончательный приговор. Все мы ее преодолеваем, когда начинаем сомневаться и думать сами. Просто из-за нейрохимии сомневаться и думать нам труднее, чем соглашаться. Недаром писатели из группы «Серапионовы братья» начинали письма друг другу так: «Писать трудно, брат». А так и тянет дописать: «А уж думать, брат, — и подавно…»
ГЛАВНАЯ ТЕМА
Рассказать науку?
Как сегодня соотносятся наука и обыденное сознание? Могут ли они понять друг друга? Есть ли у них хоть какие-то общие языки?
Как проходит граница между ними и насколько она проницаема?
Самый простой — и самый, наверное, распространенный ответ на этот вопрос: они разошлись непоправимо. Современная наука имеет дело с вещами настолько сложными, что нечего и надеяться без специальной подготовки адекватно представить себе, чем она занимается.
А популяризаторы науки, значит, обречены грубо упрощать свой предмет — если их работа вообще имеет какой-то смысл, что тоже сомнительно.
Но согласиться с этим — значит навеки запереть обыденное сознание в его ограниченности повседневными проблемами и в конце концов лишить науку питающих ее корней, уходящих во вненаучное знание и мышление. Как навести мосты между наукой и ненаукой и обеспечить целостность восприятия мира в сегодняшней культуре?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять нечто более глубокое: какова природа знания? Не только научного, обыденного, художественного, но знания вообще: постижения человеком мира и перевода его, внесловесного и внеязыкового, на человеческие языки. Как оно возникает — и что общего у разных его видов?
Это и обсуждают в главной теме номера ее участники — философ, журналист, много лет работающий в научно-популярном кино, и ученый.
Тема номера оформлена работами бельгийского художника Рене Магритта.

Нарратив между наукой и образованием
Борис Булюбаш
Булюбаш Борис Викторович — доцент Нижегородского государственного технического университета, кандидат физико-математических наук.
Нарратив — история (рассказ), исторически и культурно обоснованная интерпретация некоторого аспекта мира с позиции некоторой человеческой личности (Википедия).
Естественное и гуманитарное: подвижная граница
Совсем недавно — в XIX веке — повествовательность была одной из границ, отделявшей естественные науки от гуманитарных. С естественными науками, как правило, соотносилось однозначное, основанное на аргументированных доказательствах объяснение процессов и явлений. Повествовательный жанр, напротив, соотносился исключительно с науками гуманитарными. Первые известные случаи «вторжения» повествовательности в точные науки связаны, видимо, с концепцией тепловой смерти Вселенной Людвига Больцмана и с теорией эволюции Чарльза Дарвина.
В ХХ веке повествовательность переоткрыли философы и культурологи, и в научный оборот вошел термин «нарративность» (как самостоятельный он появился только в словарях иностранных слов последних лет издания). В то же время возрос уровень присутствия нарратива — повествования в науке — прежде всего в связи с повышением статуса научной журналистики и научно-популярной литературы (в англоязычной литературе рядом с именем автора нередко указано science writer — «научный писатель»). Мастерству научного писателя придается большое значение, поскольку гражданское общество предполагает прозрачность не только парламента, но и исследовательской лаборатории; в англоязычном мире соответствующая деятельность известна как Public Understanding of Science. Весьма часто авторами научно-популярных бестселлеров становятся известные ученые.
Нередко именно нарративные тексты научных писателей существенно влияют на формирование представлений о том, чем в действительности занимается современная наука. Так, многочисленные отклики вызвала книга «Конец науки», написанная Джоном Хорганом, научным обозревателем журнала Scientific American. Хорган без всякого пиетета описывает основные направления основных представителей современной науки, называет космологию «иронической наукой» — поскольку ее теоретические конструкции невозможно подвергнуть экспериментальной проверке — и относит к разряду иронических гипотез теорию множественности вселенных, антропный принцип, гипотезу Геи Джеймса Лавлока. Ироническими интонациями окрашено и описание беседы с Ильей Пригожиным о концепции самоорганизации.
Обширное исследование посвятила нарративу российский философ Елена Трубина: «Все новые и новые исторические события, — пишет она, — демонстрируют то, какой неотъемлемой частью человека является чувствительность к вымыслу и создание все новых вымыслов. Нарратив, повествование (мы будем употреблять эти термины как синонимы) — главная форма, посредством которой вымысел живет в культуре. С его помощью мы придаем опыту форму и смысл, упорядочиваем его посредством выделения начала, середины, конца и центральной темы. Человеческая способность рассказывать истории есть главный способ, каким людям удается упорядочить и осмыслить окружающий мир».
В отечественной литературе тема нарратива часто обсуждается в контексте философии и психотерапии и довольно редко — в контексте истории науки и естественнонаучного образования. В то же время, например, англоязычные авторы весьма активно обсуждают нарративный подход и в связи с деятельностью по формированию имиджа современной