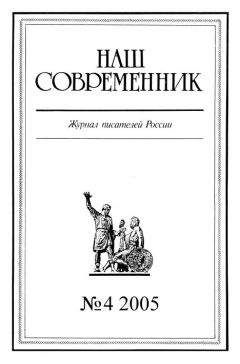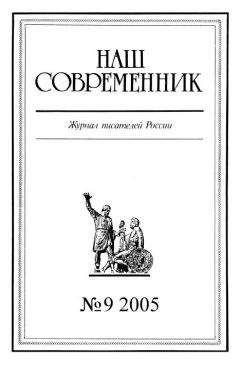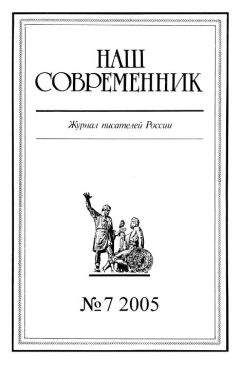Журнал «Наш современник» - Наш Современник, 2005 № 05
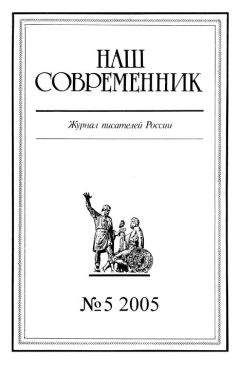
Помощь проекту
Наш Современник, 2005 № 05 читать книгу онлайн
Кто они — всякие? В повести представлен до боли знакомый точный срез нашего «гражданского» общества: капитан Никитин, заместитель командира, слетевший с военных верхов, с позорным ранением пониже спины; «ежата», «десяток энкавэдэшников из напрочь разбитого батальона» во главе с политруком Валькой Зотовым, «молодые, сплошь идейные», гибель своего отряда и всех командиров переживающие надсадно; «партийцы», скрывающие перед лицом врага свои убеждения («хрен с ними, какие партийцы в такой болотной дыре»); бывший зэк Ковальчук, пострадавший и за батьку Махно, и «за язык свой проклятый», воюющий и за волю, и за правду; «мальчишки-полицаи», возомнившие себя партизанами, на своих же односельчан чуть что вскидывающие винтовку, а «у самих пауки на рукавах»; староста Корнеев — «немецкий холуй», из бывших владельцев усадьбы, скрытой в болотах «временем и хвоей», приехавший сюда не мстить, а «дохнуть воздухом вотчины»…
Одно слово, неутешительный вывод Бородина: «Бардак!», а не «гражданское» общество. И у каждого из них — «своя» правда, точнее, оправдание бездействия. Партизаны местному населению ситуацию объясняют, что «они — резерв Красной Армии, что они готовы и головы положить, как время придет, а придет оно скоро…». Политрук Зотов врет, «как по бумажке читает», что «мнение есть такое — вообще всю заболотную зону объявить партизанской территорией и восстановить здесь по новой советскую власть, а фашистам отрезать все подходы…». Староста свою правду говорит, что «сверху — что на ладошке, один самолетик за час испепелит…».
Этому громкоголосому «гражданскому» обществу противостоит в повести народ, для которого все эти борцы за народное дело, отсиживающиеся в «заболотье», — «дармоеды»: «Народ бурчал. О чем бурчал, не понять. Но не в пользу». У народа «своя» правда — выжить во вражеском окружении: «Отсекли нас немцы от району. Спички, соль, керосин, мука — где возьмешь теперь — тока у немцев. Вся деревня обоз ждет…».
Еще один важный вопрос нашего «недюжного» времени поднимает в повести Бородин: как и чем выживает испокон века русский народ в экстремальных условиях нашей исторической действительности?
Директор школы Митрофаныч, которого в обеих деревнях уважают, продолжает учить детей: «В классах хором читали стихи Пушкина и Некрасова, а Митрофаныч рассказывал про походы Антанты и про товарища Сталина, всякий раз загонявшего Антанту в гроб». Показательна в повести драматическая история с портретами вождей в школе, когда директор заменил Ворошилова на Гитлера, с криком доказывая воинственным «полицайчикам», что ему «плевать», под чьими портретами учить детей, главное — учить добру.
Деревенская девка Зинаида (единственный добротно выписанный женский образ в повести), что «породы родильной» в полном соответствии с «тутошными» деревенскими запросами, но «рожей не вышла», и потому замуж не берут, на войне нашла свое бабье счастье в образе партизанского командира и призвание «врачихи»: болезных и подраненных выхаживает, что детей малых.
Образ Зинаиды — олицетворение в повести на вид неприглядной и неприкаянной, многострадальной крестьянской России, родильной, кормящей и исцеляющей всех: «А рожа словно из одних мускулов — вся буграми. Это она так душой плачет, потому что глазами плакать не умеет».
У жителей «нетипичной» деревни Заболотка* есть свой особо ценный дар природы: «Заболотный мед — он не как всякий. По легенде, где-то посредь болот, куда человеку путь заказан, поляны с дивными цветами, там-де пчелы и набираются особого нектару, отчего и вкус, запах местного меда особый, и не просто особый, но особо целительный». Это самая загадочная по смыслу метафора в повести. Что это? Русская духовность, культура? Или что-то более существенное, чем уже столько лет экономически выживает наше государство? Нефть, газ и другие природные богатства? «Заболотный мед» — некая собирательная, вечная сущность русской жизни, на которой она зиждется, — и духовное, и материальное воплощение национальной идеи. В нем тайна столетнего умения мужика выживать. «Заболотный мед» помогает выжить деревне при любой власти, «договориться» и «смазать» ее: «А что им надо… Ну, мед первей прочего».
Мнение «энкавэдэшников» о Заболотке однозначно — в их несозна-тельности (они хотят выжить, а не погибнуть!) причина наших поражений: «А сколько их, нетипичных, по всему Союзу… То-то немцы проперли до Москвы, будто по воздуху». Для зама командира Никитина: «Типично кулацкая деревня… Нутро их антикоммунное чую, знаю. Мир мужика — его деревня, а что за ее пределами — ему все по… Чтоб коммунизм построить, с ним еще работа предстоит…». По их логике, нет ничего зазорного в том, чтобы навести на деревню немца, напав на вражеский обоз, потому что «война, и времени для долгого разбора нету, ни у кого лишнего времени нету».
Командир отряда Кондрашов — единственный, кто старается понять народ и его правду: «А деревня, что с ней будет?». Вся напряженность повествования построена на его спорах с «чужими» правдами.
Один из главных оппонентов командира — его заместитель, капитан Никитин, красноречиво о себе сказавший: «Я раненый. И не только в задницу, хуже — в душу». Автор дает ему «мертвенные» черты истового фанатика: «Вместо щек — впадины, нос торчком, губы, словно в полусудороге, как на ветру морозном». Девиз капитана: «Делай свое дело и не оглядывайся, при напролом, если твое дело правое». Смысл жизни он видит в войне, и не только с фашистами, а за правое дело: «А если не построим этот самый коммунизм, так, чтоб всему миру шило в глаз, тогда вся наша история российская к чертям собачьим. Смысл-то где…». Да, Никитин «боевой», но «злющий»: «Кого хошь шлепнет, если не по-военному…». Поэтому столетнее умение мужика выживать для него — косность, а народ — «бараны», которым необходимо «мозги прочистить», чтобы били фашистов: «Ты сожженные деревни видел? А города, разваленные до кирпичей? А повешенных и расстрелянных? А русского солдата с автоматом с полным диском, чтоб руки вверх поднимал — такое ты видел? А сотню самолетов, на аэродромах разбомбленных, чтоб даже ни один взлететь не успел, — такое вообразить можешь?». Горькая правда, но чья в том вина, народа ли?
У командира Кондрашова «на душе погано» от предложения Никитина напасть на вражеский обоз (тогда немцы пожгут деревню, приютившую партизан), а он ведь «не интеллигент какой-нибудь, понимает все вроде бы»; не нравится ему и ненависть капитана к мужикам: не приемлет он эту сторону «красной» правды. Но командир, тоже «порох понюхавший», в душе пасует перед душевной яростью боевого капитана: «Войну все-таки выиграют такие, как капитан Никитин. Ну, то есть все вместе, конечно, но по-никитински!». Но расстреливать деревенских ребят Кондрашов не даст! Потому что не может он «вторую сторону побоку, будто ее и вовсе нет». И после гибели Никитина командир не зря подумает о нем, что он жил «одними чувствами» — ожесточения и ненависти, что он «жизнь чувствовал неправильно».
Другой оппонент красного командира Кондрашова — староста Корнеев, потомок рода Ртищевых, бывший белогвардеец. Один из его пращуров был «истовым коммунистом» при царе Алексее Тишайшем: все богатство родовое спустил на благодеяния, «бездомных поселял, голодных кормил, обучал грамоте способных, а в вере православной сомнение имеющих еще и окормлял духовно в братстве, на ту потребу созданном». Учинил он сущую коммуну, каковую и государь посещал с великим одобрением (какой славный парадокс истории в духе Карамзина!). Остатки усадьбы Ртищевых — двенадцать мраморных ступеней (по числу поколений этого рода) — сохранились, скрытые временем, хвоей да хворостом в заболотном лесу, к ним ведет тропа в обход деревни Тищевки (бывшей Ртищевки), здесь скрыт и потаенный путь из «заболотья».
Здесь символически выражена возможность выхода России из исторического тупика и его направление — на Восток. Писатель резко отделяет истинность русского пути в обретении реальной, твердой исторической почвы под ногами от примитивно умозрительного лжеевразийства («энкавэдэшного»: «ежата» — «они все рожами на восток»).
Нынешний потомок славного русского рода Корнеев водит «шашни с немцами» — с врагами Отчизны. Он представлен в повести как последователь «белой» идеи атаманов Краснова и Шкуро: собирать казачьи полки и с немецкой помощью «освобождать Родину от большевистской заразы, а потом, дескать, и немцам под зад, и заживем любо-дорого в Единой и Неделимой». Бородин утверждает, что эта сторона «белой» правды — навести на свой народ врагов и сражаться с ним во имя высшей идеи — неприемлема для русского патриота (как не принимают ее упомянутые в повести Деникин и «великий русский философ» Иван Ильин) и ничем не лучше коммунистического фанатизма. Для фанатиков всех мастей русский народ — лишь «человеческий материал» для торжества идеи.