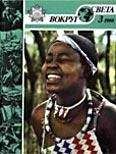Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» №08 за 1988 год
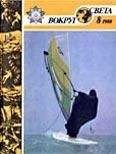
Помощь проекту
Журнал «Вокруг Света» №08 за 1988 год читать книгу онлайн
Выехали рано утром. Завернули к рыбакам на Карночек, подкрепились испеченным на костре лососем, выпили чаю и на двух лодках отправились к острову. Дул встречный ветер. Корму и особенно сидящего у мотора Виктора захлестывала волна. Остров быстро приближался, рос на глазах. На угрюмых утесах открывались глубокие трещины, обрывы. Мы подошли к острову с северной подветренной стороны и попали в уютную тихую бухту. Спокойная вода, серо-стальные скалы и галечный берег...
Пареньцы называют этот остров «Пойтолоилыс» — Пареньский остров. А название, отмеченное на географических картах и морских лоциях, остров получил в 1915 году в честь офицера русского флота капитана дальнего плавания Николая Александровича Добржанского. Он проводил изыскания в Пенжинской губе в составе гидрографической экспедиции Восточного океана.
Долго оставаться на острове мы не могли, с отливом нужно было уходить, и мы быстрым шагом двинулись к «китовому месту». Идти вначале было нелегко, все вверх и вверх по мягкому ковру из мхов и лишайников. Под ногами брусника, морошка, виднелись яркие шляпки грибов. Наконец мы вышли на мыс и здесь увидели то, к чему стремились.
Несколько вкопанных челюстных костей, черепа и беспорядочное нагромождение китовых ребер. Самые крупные челюсти доходили до трех метров. По-видимому, тут добывали молодых китов. Биологический вид их когда-нибудь определят зоологи. Рядом с костями хорошо было видно место, где стояло переносное каркасное жилище типа яранги. Конечно, это было временное жилье, постоянно люди тут не жили. И даже промысловой стоянкой это место назвать нельзя. Кругом крутые берега и плохой подход к воде. Может быть, это было культовое сооружение, жертвенник китобоев? Или «Китовый караул» — в поселке мне рассказывали, что с острова раньше высматривали: есть ли киты?
После поездки на остров я думал вот о чем. Все материалы этнографии и биолого-хозяйственные описания, а также памятник вроде того, что мы увидели на острове Добржанского, свидетельствуют о том, что Охотско-Камчатский край когда-то был вторым по величине после Чукотки и Аляски очагом прибрежного китобойного промысла. Пенжинские коряки исстари были умелыми китобоями. Их промысел был сильно подорван хищничеством американских китобоев в середине XIX века.
Но еще в 30—40-е годы Пенжинскую губу бороздили десятки кожаных байдар. Охотились на тюленей. А. Э. Челкунин рассказал мне, что еще мальчиком он принимал участие в охоте на китов в байдаре самого известного в Парени охотника и кузнеца Тутава. Второй байдарой командовал Чахъинковав. Тогда добыли двух китов и отбуксировали их для разделки в Хаимчики. Это были последние киты Парени...
Сейчас в Парени я не видел ни китов, ни байдар. Множество истлевших байдарных каркасов разбросано у безлюдных поселков. А между тем на Чукотке и Аляске сейчас идет возрождение байдарного промыслового плавания. Эскимосы по обе стороны Берингова пролива признают: древняя байдара лучше вельботов и металлических лодок, которые у них есть сегодня. Может быть, и здесь, в Охотской Камчатке, еще не все забыто и утеряно? И в развитии современного хозяйства традиционные знания природы, охотничьи навыки, ремесла и искусство народов Севера найдут свое место? Тут есть над чем подумать.
Фактов, кажется, мы добыли в нашей экспедиции немало. Теперь дело за рекомендациями. Вот одна, главная. Парень нужно возрождать, и основа для этого есть. Здесь наилучшие в районе экологические условия. Картофель тут крупный и поспевает раньше, чем на Камчатке. Травы хороши для сенокосов. В Пенжинской губе много красной рыбы, тюленей и белухи. Местные жители знают здесь каждый кустик, каждый ручей, они умеют добывать рыбу и зверя лучше, чем кто-либо. Владимир Лыхьив и управляющий отделением совхоза Юрий Владимирович Кевев считают, что их хозяйство можно было бы ориентировать на производство продукции для оленеводческих бригад. Пареньцы могут поставлять в тундру «комплект оленевода» — полный набор упряжи, чаат из кожи тюленя, торбаса на лахтачьей подошве, хороший нож. А также особым способом готовить для оленеводов рыбные припасы — юколу, телюшки, жир морского зверя. Это была бы настоящая, не на словах, а на деле, забота об оленеводах вместо ежегодных обещаний построить им всем дома в поселке. Хотя, конечно, и дома строить нужно.
Инициатива пареньцев замечательна, но не разобьется ли она о равнодушие и незаинтересованность местного руководства? Ведь все эти ремни, кожи и жир не входят в перечень основных плановых показателей работы РАПО.
С закрытием Парени будет потеряна еще одна ниточка, связывающая для береговых коряков прошлое и будущее. Будут потеряны традиции, ремесла, язык. Пареньцы исчезнут как племя, пополнив отряд уборщиц, разнорабочих и грузчиков в и без того небогатых рабочими местами Манилах.
По возвращении из Парени в Каменское мне не раз еще пришлось слышать, что, мол, пареньцы— «иждивенцы», что от них району одни убытки и лишние хлопоты, что переселение, даже вопреки их желанию, будет для них благом. Могу сказать, что сами пареньцы так не считают. Для своего блага они хотят, в сущности, очень немногого — жить на родной земле и оставаться самими собой.
Уже в Москве, возвратившись из экспедиции, я узнал, что для встречи очередной комиссии по проверке поселка жители Парени вышли на вертолетную площадку с плакатами в руках. На одном из них было написано: «Племя Пойтоло хочет жить на своей земле!»
Камчатская область, Корякский автономный округ
Александр Пика, кандидат исторических наук
В погоне за невидимкой
Бортмеханик захлопывает дверь. Ил трогается с места, долго и тряско катит по бетонным дорожкам. Взлетаем мы как-то незаметно. Медленно набирая высоту, самолет идет вокруг города, над дачными поселками, разбросанными в пригородном лесу, над Томью — к полигону аэрологов...
События того дня разворачивались столь стремительно, что сейчас я с трудом вспоминаю, как рейсовый Ту-154 доставил меня на томскую землю, и как потом, в лаборатории оптической погоды Института оптики атмосферы Сибирского отделения АН СССР, я с тревогой ожидал, когда освободится от повседневных хлопот начальник авиаэкспедиции Борис Белая — ученый, ради встречи с которым я и прилетел в этот сибирский город. Впрочем, ждал я его тогда недолго. Спустя час мы уже ехали на другой конец города, к полигону.
В лабораторном корпусе, или, как здесь его называют, «полигоне», меня сразу взял под ненавязчивую, но предупредительную опеку Валентин Кузьмич Ковалевский — ветеран авиаэкспедиции, инженер-электронщик и изобретатель:
— Разобраться в нашем хозяйстве просто. Экспедиция Белана занимается авиаразведкой. Группа старшего научного сотрудника Сергея Бобровникова работает с лазерными зондами — лидерами. Иногда они проводят параллельные исследования, как, например, сегодня.
Вскоре я опять шел по взлетному полю Томского аэропорта.
Маленький салон экспедиционного Ил-14 явно тесен, но как-то по-особенному обжит, как бывает обжит вездеход геологов. Изнутри самолет отнюдь не похож на машину, -предназначенную для полетов. Из салона через отверстия в бортах тянутся пластиковые трубки. Снаружи они соединяются с воздухозаборниками, внешне напоминающими автомобильные клаксоны начала века. В полете в их раструбы вместе с атмосферным воздухом попадают взвешенные в нем микроскопические аэрозоли. Вот эти мельчайшие частички и исследуют ученые. Они определяют концентрацию аэрозолей в воздухе за бортом, его влажность, температуру. Собранные в полете на бумажный фильтр пылинки потом в лаборатории сжигают и по спектру пламени определяют, из чего они состоят.
Заканчиваются недолгие приготовления к полету. Белан желает нам летной погоды и спускается на асфальт. В последний момент выясняется, что сегодня он вынужден остаться на полигоне.
— Высота — восемьсот метров, влажность — семьдесят пять процентов, концентрация аэрозолей — тридцать,— громко повторяет данные приборов Ковалевский, записывая их в журнале наблюдений. Как я узнал, он проводит испытания усовершенствованного прибора, и первые показания осмысливает сам, без посредничества бортового компьютера.
Попутно он объясняет мне, что задача перед ним сегодня стоит сложная. Счетчик аэрозольных частиц, с которым приходится работать,— прибор серийный, и качество его ученых не устраивает. При таких сложных исследованиях необходимы приборы на порядок чувствительнее. Вот почему Ковалевский, по профессии инженер-электронщик, вынужден не только переделывать серийные приборы, но и зачастую летать в качестве оператора.
— Сначала «площадка» на тысяче метров, потом снижаемся до двухсот,— объявляет регламент работы сотрудник лаборатории Геннадий Толмачев. (Площадкой аэрологи называют исследуемый воздушный слой.)