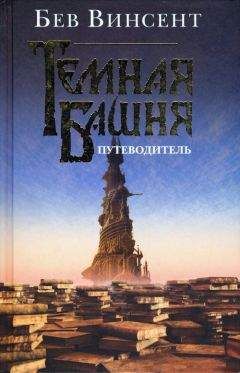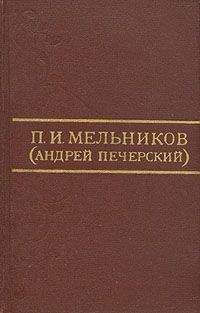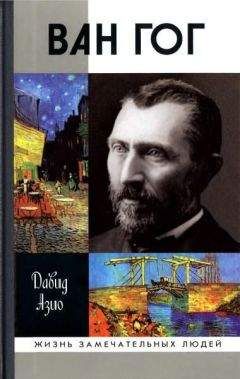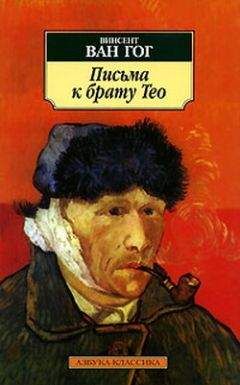Нина Дмитриева - Винсент ван Гог. Очерк жизни и творчества
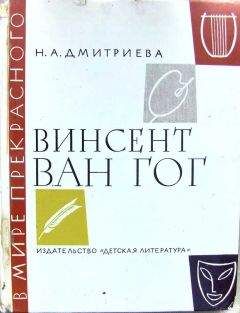
Помощь проекту
Винсент ван Гог. Очерк жизни и творчества читать книгу онлайн
Существует распространенное мнение, будто Ван Гог как художник сложился только во Франции, только там у него открылись глаза и развязались руки, а до того он погрязал в художественном провинциализме, писал темными красками и наивно подражал второстепенным голландским живописцам. Это мнение тенденциозно и совершенно несправедливо. Нужно непредвзято всмотреться в произведения дрентского и нюэненского периода, чтобы убедиться в его ошибочности.
Нюэненский Ван Гог — уже доподлинный Ван Гог, прекрасный самобытный художник, находящийся на подъеме сил. Парижские и арльские работы гораздо более известны, их постоянно репродуцируют, голландские же остаются в тени, как «предыстория». Но, видя их в подлиннике, трудно не согласиться с английским художником Огастесом Джоном, который о них писал: «Эти темные холсты были, я думаю, по существу так же хороши, как созданные под солнцем Прованса».
Кажется, никогда — ни прежде, ни позже — Ван Гог не был столь убежденным, воодушевленным, обуреваемым новыми идеями и сознающим свою миссию художником, как в нюэненский период. Условия жизни и работы не стали легче, по-прежнему он бедствовал, и ему постоянно не хватало денег на модели. По-прежнему или больше прежнего он был одинок, окончательно простившись с надеждами на собственный семейный очаг. Отношения его с родителями, сестрами и братьями (за исключением Тео) были сравнительно мирными, но безнадежно далекими.
Родные относились к нему с настороженным недоверием, не понимая, что он за человек.
«Пустить меня в семью им так же страшно, как впустить в дом большого взъерошенного пса. Он наследит в комнатах мокрыми лапами — и к тому же он такой взъерошенный. Он у всех будет вертеться под ногами. И он так громко лает».
Ван Гог поселился в Нюэнене отдельно от семьи, оборудовав под мастерскую какой-то сарай.
Теперь его уверенность в своих силах стала твердой, и это ему заменяло все. «Я говорю, что пытаюсь найти свое счастье в живописи, ни о чем больше не задумываясь». «Говорю тебе, я сознательно избираю участь собаки: я останусь псом, я буду нищим, я буду художником, я хочу остаться человеком — человеком среди природы».
И «человеком среди людей» добавлял он в другом письме. «Нет ничего более художественного, чем любить людей».
Ван Гог писал в Нюэнене крестьян, полевые работы, крестьянские хижины, крестьянское кладбище и мечтал о том, чтобы совсем уйти от «образованных людей» и жить по-крестьянски.
Художника, столь демократичного, как Ван Гог, душой, телом, вкусами, образом жизни, пожалуй, не было среди его современников. Его органически отталкивало все связанное с «высшим обществом», с гостиными, нарядными дамами, изысканными манерами, «лакированными ботинками» и так же органически притягивали все атрибуты жизни низших классов, «людей в деревянных башмаках». Он верил, что среди них — его настоящее место, где он мог бы чувствовать себя самим собой и у себя дома. «Хорошо зимой утопать в глубоком снегу, осенью — в желтых листьях, летом — в спелой ржи, весной — в траве; хорошо всегда быть с косцами и крестьянскими девушками — летом под необъятным небом, зимой у закопченного очага; хорошо чувствовать, что так было и будет всегда».
Пройти мимо этого решающего пристрастия Ван Гога — значило бы совершенно не понять его творчества. Как ни сложна диалектика содержания и формы в искусстве, большое заблуждение думать, что в искусстве «как» важнее, чем «что». Могут возразить: тысячи художников писали, например, «Благовещение» и «Тайную вечерю», а различает их то, как они писали; тысячи писали натюрморты с яблоками, но каждый писал яблоко по-своему. Это так; но не нужно смешивать предмет изображения с предметом любви, — то, что художник истинно любит, определяет собой его «как», его подход к любому предмету. Личность художника жаждет раздвинуть свои границы через нечто «другое», находящееся вне его «я», но ему созвучное. И очень важно, каково это «другое».
Эрнест Хемингуэй однажды сказал, что нельзя судить о Греко, Веласкесе и Гойе, сравнивая, «как каждый из них написал распятие Иисуса Христа», «ибо из всех троих один Греко верил в Христа или интересовался распятием его». Ни Веласкес, ни Гойя распятием не интересовались, хотя им и случалось его писать, а «судить о художнике можно только по картинам, на которых он пишет то, во что верит или что любит и ненавидит».
Ван Гог как священное заклинание повторял: «Друзья, давайте любить то, что любим».
«В мире существует много великого — море и рыбаки, поля и крестьяне, шахты и углекопы», — вот это он неизменно любил, любил как человек и как художник. Писал ли он свой любимый предмет непосредственно или косвенно, через пейзаж или натюрморт, или вообще писал нечто другое — образ неутомимого «человека в деревянных башмаках» так или иначе всюду присутствует, зримо или символически, сказываясь в манере видеть, чувствовать, изображать. И даже жизнь и смерть олицетворялись для Ван Гога в фигурах сеятеля и жнеца.
Любимый художник Ван Гога Милле был для него и образцом человека достойной жизни, который провел долгие годы в деревне, довольствуясь «той же едой, питьем, одеждой, жилищем, что и сами крестьяне». Ван Гог преклонялся перед суровой, чистой жизнью Милле, семьянина и труженика, не меньше, чем перед его художественными качествами — эпичностью композиций, величавой пластикой фигур сборщиц колосьев, сеятелей, ритмом, подобным мерному звону большого колокола.
Ван Гог полагал, что воссоздать сельский эпос с такой правдивостью и благородством только и можно было изнутри, а не со стороны, — городской житель не мог бы писать, как Милле.
Однако очень многое отделяло Ван Гога от его кумира, и прежде всего — мятежность Ван Гога.
Хотя многие критики и находили в произведениях Милле затаенную революционность и дух протеста, сам Милле никогда с этим не соглашался. И действительно, от полотен Милле веет религиозным смирением перед участью человека «в поте лица добывать хлеб свой». Милле печален, но спокоен. Ван Гогу же никогда не давалось спокойствие.
В 1884 году он осознал себя потенциальным революционером и написал об этом брату со всей недвусмысленностью. Он сказал, что, живи он в 1848 году, он был бы на баррикадах среди восставших, а брат его, умеренный и осмотрительный Тео, вероятно, стоял бы по ту сторону баррикады. «…Тогда был 48-й год, а теперь 84-й; тогда была баррикада из камней мостовой, теперь она сложена не из камней, но во всем, что касается непримиримости старого и нового, она все равно остается баррикадой». «Существует старое общество, которое, на мой взгляд, погибнет по своей вине, и есть новое, которое уже родилось, растет и будет развиваться».
Ван Гог всегда помнил о революционном движении шахтеров в Боринаже, оказавшем столь сильное влияние на собственную его судьбу; он сам делил с углекопами кусок хлеба, жил бок о бок с крестьянами в Нюэнене; он слишком хорошо изведал, что значит ханжеская буржуазная мораль и буржуазная сытая самоудовлетворенность. Свои убеждения он добыл ценой сурового опыта и слово «революция» употреблял не всуе.
Внутренний облик Ван Гога невольно ассоциируется у нас с обликом русского художника-демократа, хотя, как уже сказано, Ван Гог почти ничего не знал о России, только позже читал кое-что о Толстом и Достоевском, а современная ему Россия ровно ничего не знала о нем.
Да и нигде не знали о нем, пока он жил и делал ту самую работу, которая через много лет прославила его имя.
Русские художники-демократы черпали силы в коллективности, — это была деятельность большой когорты единомышленников, если не во всем, то в главном. У них была опора на русских революционных мыслителей, на русское революционное движение, русскую литературу; они были организационно объединены и имели перспективу развития. Ван Гог стоял одиноко, ни с кем не связанный, никого не интересующий, только сам жадно интересовавшийся людьми, картинами, книгами, идеями. Нужна была исключительная сила духа, чтобы не опустить руки, не сдаться, — и он не сдавался, хотя ему это дорого обошлось. Он был раним, впечатлителен, сверхчуток.
В его искусстве, чем более зрелым оно становилось, чем непринужденнее действовала его рука, нарастала какая-то электрическая напряженность — невольное излучение его личности, живущей на пределе.
В простых этюдах с натуры, в простых мирных видах Нюэнена чувствуется эта тревожная пульсация: художник приобщает их к своему неукротимому душевному миру. Он особенно любил писать старинную полуразрушенную церковь-баш-ню с крестьянским кладбищем возле нее. Она стояла одиноко, вырисовываясь на фоне неба своим компактным силуэтом. Ван Гог изображал ее почти так же часто, как Сезан — гору Сен-Виктуар в Эксе. Писал ее издали и вблизи, при разном освещении, в разное время года; иногда с фигурами женщин, медленно идущими к ней по дороге: «Мне… хотелось выразить с помощью этих развалин ту мысль, что крестьяне испокон веков уходят на покой в те же самые поля, которые они вскапывают всю свою жизнь; мне хотелось показать, какая простая вещь смерть и погребение — такая же простая, как осенний листопад: холмик земли, деревянный крест, и больше ничего. Лежащие вокруг поля, которые начинаются там, где кончается трава кладбища, образуют за невысокой оградой бесконечную линию горизонта, похожего на горизонт моря. И вот эти развалины говорят мне, что разрушаются, несмотря на свои глубокие корни, и вера, и религия, а крестьяне живут и умирают с той же неизменностью, что