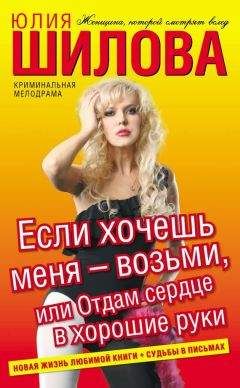Перец Маркиш - Куча

Помощь проекту
Куча читать книгу онлайн
Ханох Дашевский
Не из того ряда
Послесловие переводчика
Резня в местечке Городище произошла в 1919 году накануне Судного дня, и убитые евреи остались непогребёнными. Несколько сот трупов свезли на площадь и свалили в большую груду напротив монастыря.
Вскоре молодой, но уже известный еврейский поэт Перец Маркиш начал писать поэму «Ди Купэ» («Куча»).
В этом произведении, написанном в экспрессионистской манере, он обнажает городищенскую трагедию, лишив её ореола святости. Рваные шкуры, мешки с тряпьём, заскорузлые ноги — поэт с потрясающей силой изображает натуралистические подробности погрома. В поэме Маркиш утверждает, что обитатели местечка умерли, как и жили: безо всякого смысла. Зарезали их, как режут скот; они не сопротивлялись.
Такой взгляд на судьбу соплеменников проявился уже у Бялика, в его «Сказании о погроме», написанном в 1904 году — за шестнадцать лет до поэмы Переца Маркиша: Зачем, во имя чьё вы пали — смерть без смысла, как жизнь, как ваша жизнь без смысла прожита[4]. Так же смотрели на кровавую бойню, происходившую в годы Гражданской войны молодые евреи самых разных политических взглядов и пристрастий.
Сюжет поэмы Маркиша не из того ряда, когда за кровавой вакханалией грядёт Искупление и новый рассвет. «Куча» — о резне, в которой жертва не в состоянии сопротивляться. И в этом заключена ужасающая банальность погромов — и в Средневековье, и в хмельнитчину, и в Гражданскую войну, и в нацистских лагерях смерти. Нескончаемый плач, боль и тоска.
Сумрачный плач самого Маркиша.Верните заповеди Богу на Синай… Что принесли еврейскому народу преданность традиции и вера, если посреди майдана возвышается новый храм — Куча? Массовое жертвоприношение. Заклание, подобное языческим оргиям. И огороженный забором шатёр под чёрным флагом; так огораживают зачумленное жилище.
Уже Хаим Нахман Бялик в своем «Сказании о погроме» бичевал еврейское малодушие, но Перец Маркиш, предельно заостряя тему пассивности жертв, в отличие от своего предшественника, зовет к мести. И если Бялик писал: Мести нет — слишком страшны страданья, то Маркиш видел это иначе: За кровь твою уже вбиваю я/ свой гвоздь железный в крышу колокольни.
Поэта обвиняли в кощунстве: он вставлял в свои строфы цитаты из молитв, подчёркивая несоответствие религиозных постулатов кровавой действительности. Но молодое литературное поколение, поэтический авангард, настроенный так же, как и Маркиш, бунтарскую поэму приняло с восторгом: пришло время открывать новые пути и в поэзии, и в жизни.
Изо всех ранних поэм Переца Маркиша лишь «Ди Купэ» никогда не переводилась на русский язык и не публиковалась: после возвращения поэта из эмиграции в 1926 году Советский Союз уже не был той культурной площадкой, на которой мятежной поэме нашлось бы место.
Сейчас, когда мы отмечаем юбилей классика еврейской поэзии, мне кажется, пора представить русскоязычному читателю эту страшную, чёрную, но очень важную для всего его творчества поэму.
Приношу благодарность Велвлу Чернину и Давиду Маркишу за очень важные для меня консультации, разъяснения и советы.
Работая над переводом, мне далеко не везде удалось полностью следовать ритмическому рисунку оригинала. Прежде всего, я старался воссоздать на русском языке поэтический мир молодого Переца Маркиша, ибо если в русском переложении нет поэзии — зачем оно?
Могу добавить, что сам поэт ругал своих переводчиков за стремление сохранить рабскую верность оригиналу. Он утверждал, что поэзия непереводима. Так свидетельствует в мемуарах жена поэта.
Может быть, это послужит мне оправданием.
Давид Маркиш
На родном языке
К стодвадцатилетию со дня рождения Переца Маркиша
Рассуждая о двуязычии в русской литературе, в первую очередь — да и в последнюю, кажется, тоже — в голову приходит Набоков. Был, правда, ещё и Лев Толстой, большýю часть романа «Война и мир» написавший по-французски; но это ведь случилось не вчера. А Набоков — вчера. Сегодня в этой литературе такие уже перевелись, и второй писательский язык, равноправный первому, русскому, сочли бы дерзким вызовом патриотизму.
Писатели же, перешедшие с языка на язык, не такая большая редкость. Тому близкий пример — Эммануил Генрихович Казакевич, начинавший как поэт на языке идиш (его отец, Генох Казакевич, был известным еврейским журналистом), а после войны написавший по-русски повесть «Звезда», уверенно занявшую одно из первых мест в русской литературе об Отечественной войне 1941–1945 годов. Вынужден был определиться с рабочим языком в своей прозе и Чингиз Айтматов. Примечательно, что оба они — и Казакевич, и Айтматов — дебютировали как русские писатели в московском литературном журнале «Знамя». Этими двумя примерами, разумеется, не ограничивается круг писателей; их и на Западе немало. Такая смена языков в литературе — тяжелейшее, мне кажется, предприятие, и диктуется оно факторами фундаментальными: карьерными, политическими или идеологическими. Один мой знакомый, малоизвестный русский поэт, репатриировавшийся шестью или семью годами после меня, решил перейти в своём творчестве на иврит. Это решение было продиктовано не только патриотическим духом, совершенно искренним, но и здравым расчётом: в Израиле быть ивритским поэтом куда как нелегко, но всё же несоизмеримо легче, чем русским. И действительно, мой знакомец своего добился: засел за учебники и пособия, корпел над ними лет пять — и, в конце концов, выпустил-таки сборничек стихов, написанных на иврите. Хвала упрямству и одержимости идеей! И если по-русски мой поэтический приятель писал плохо, то на иврите он стал писать очень плохо.
Да я и сам, сидя в отказе в Москве, мечтал перейти когда-нибудь с двоюродного русского на родной иврит, загадочные буквы которого — «угловатые, как землепашцы, и плечистые, как кузнецы», — нравились мне куда больше, чем привычная кириллица. Добравшись, наконец, до Израиля, я уже через полгода понял, что такая лингвистическая задача мне не по плечу — и, не без облачной грусти, расстался с надеждой.
Перец Маркиш, прежде чем раз и навсегда обратиться к родному ему языку идиш, писал стихи по-русски. Я узнал об этом на исходе 50-х, после возвращения нашей семьи из ссылки, и был потрясён: мой отец, классик еврейской литературы, писал русские стихи! Вот она, у меня в руках, эта толстая столетняя тетрадь в чёрной клеёнчатой обложке, где рукой моего отца записаны десятки стихотворений. Язык прозрачен, грамматика безупречна — отец владел русским безукоризненно, не исключая и фонетики. Я не могу объяснить, каким образом мальчик, родившийся в захолустном местечке, в традиционной религиозной семье, повседневным языком которой был идиш, смог овладеть русским в таком объёме.
Насколько мне известно, до начала Первой мировой войны Перец Маркиш не публиковался ни по-русски, ни на идише. Его стихи на еврейском языке появились в печати уже после войны, на которую Маркиша призвали, он воевал, был ранен и даже объявлен погибшим в бою. К счастью, известие это оказалось ошибкой: отец выжил и после лечения в госпитале был демобилизован по ранению. 1918 год — год окончания мировой войны и начала гражданской — отец встречает в Екатеринославе (Днепропетровске), в отряде еврейской самообороны. Там, в «Катеринославе», он пишет на идише поэму «Волынь» и готовит к печати свой первый сборник стихов «Швелн» («Пороги»). Поэма и «Пороги» принесли ему известность и вывели в первый ряд молодой еврейской поэзии. Спустя два года он написал поэму о погроме «Ди Купэ» («Куча»), которая, вместе с его авангардистским альманахом «Халястрэ» («Ватага»), сделала Переца Маркиша одним из признанных лидеров новой еврейской поэзии, обнажённый экспрессионизм которой уподоблял её напряжённой мышце или натянутой тетиве лука.
Что побудило Маркиша отказаться от русского языка, которым он в своей юношеской поэзии пользовался безраздельно, в пользу родного языка идиш? Думаю, этому способствовал кровавый и дикий опыт войны, который он, молодой местечковый еврей, приобрёл на полях чужих ему сражений. Там, на войне, во фронтовой полосе, проходившей и по еврейским местечкам, лицом к лицу столкнулся Перец Маркиш с тем горем и притеснениями, которые обрушились на бесправных и беззащитных еврейских людей черты оседлости. Их отчаяние, боль и мерцающую надежду на спасение от смерти куда естественней было выражать на их родном языке.
В ранних подростковых стихах о своей духовной «чужести» отец высказался более чем отчётливо, по-русски: Прости мне, Русь — земля изгнанья. И ещё: И рос в тебе я, одинокий,/Чужой тебе, твоей земле…
И мы там были чужими, откровенно говоря.
Примечания
1