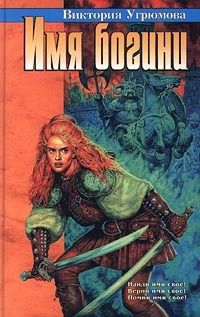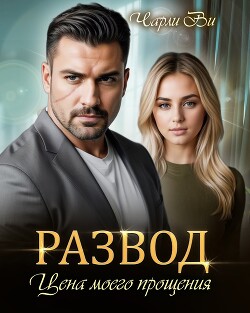А. Кугель - Профили театра

Помощь проекту
Профили театра читать книгу онлайн
В этих наивно-комических словах полуобразованного конторщика чувствуется та же тягота… {245} Какого, собственно, «направления» держаться? Что делать? «Замечательная книга» не научила людей любить жизнь, не вдохнула энергии, бодрости, здоровья… «Думайте — 22‑го торги». И все думают, бессильные помочь, с одной глухой надеждой на отсрочку.
Когда сердцу и уму ясны обреченность жизни и бесполезность борьбы, когда внутренний мир такой холодный и усталый, что человек не знает, какое выбрать «направление» — «жить или застрелиться» — люди вырабатывают свой собственный диалог, очень мало похожий на разговор действенной жизни. Обычно мы говорим тогда, когда это нужно. Нас спрашивают — мы отвечаем; мы спрашиваем — нам отвечают. Реальные интересы, взаимные отношения дают связность, логическую соподчиненность речам. Слова текут по руслу жизни. Герои Чехова ведут особый диалог. Стоя в стороне от жизни, подчиняясь ее течению, эти пассивные натуры больше разговаривают про себя и для себя, чем для дела.
Раневская говорит между прочим: «Как вы все серо живете. Как много говорите ненужного!» Трофимов замечает: «Я боюсь и не люблю очень серьезных физиономий, боюсь серьезных разговоров. Лучше помолчать!» Ненужность разговоров вытекает из общего настроения обреченных людей. Если то, что должно случиться, непременно случится, если бесполезна борьба, если жизнь безудержно {246} идет к окончательному аукциону, — большая часть речей становится действительно бесцельным словоизлиянием. От слова отнимается самое драгоценное его свойство — способность сделаться действенным орудием, способность влиять, заражать, целесообразно наполнять жизнь. И тогда, точно, самое лучшее — молчание.
Всякий раз, как Гаев пытается завести свою тягучую речь, его останавливают словами «дядечка!» «опять!» и пр. Речь Гаева мучительно отзывается в душе окружающих. Она представляет типичный образчик словоизлияния, не имеющего никакой определенной цели, бессильного что-нибудь изменить или хотя бы внести ясность в жизнь. В роде Гаева говорят все, но ни у кого беспомощность, почти ребяческое бессилие не выражается с такой яркостью.
Все это совершенно не нужно, совершенно не имеет отношения к происходящей трагедии судьбы. Люди говорят, а судьба плетет, очко за очком, свое роковое кружево и в той, почти патологической форме, в какой проявляется говорливость Гаева, слушать его — это лишняя тягостная обуза. «Не надо», — говорят ему. Все равно как в доме повешенного не надо говорить о веревке.
Речи действующих лиц в пьесах Чехова — в «Вишневом саду», в особенности — приближаются к форме монолога.
{247} «О, сад мой! После темной, ненастной ночи и холодной зимы, опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя»… (Раневская).
«О, природа, дивная, ты блещешь вечным сиянием, прекрасная и равнодушная, ты, которую мы называем матерью, сочетаешь в себе бытие и смерть, ты живешь и разрушаешь»… (Гаев).
Это не столько речи, сколько думы вслух — думы, которые проносятся вереницею в голове и которые обычно люди прячут и удерживают в себе, понимая, что самое произнесение их вслух есть уже умаление их искренности и красоты, ибо всякое сказанное слово ниже, бледнее, пошлее того, что зреет в душе.
«Мне 51 год, как это ни странно», — говорит Гаев. Жизнь прошла, или проходит. «Странно», что «жизнь пережить — не поле перейти» — оказалось таким пустым, незначительным, мелким делом. И вот уже конец. Шопенгауэр в своих «Афоризмах и максимах» замечает между прочим, что у стариков жизнь идет быстрее, чем у молодежи, потому что, не реагируя, старики не замечают течения жизни. Жизнь измеряется борьбой, приливами и отливами душевного состояния, фактами замечательными и приметными. Мерило ее — события, отражающиеся в душе и заключающие в себе неписаную хронологию. А жизнь протекла, не оставив следов, смутно, как сон… Как странно. Пьеса кончается, {248} не доставив актеру, игравшему ее, сознания того, что он ее играл…
Старичок Фирс, самое «обмирающее» существо в этой тихой и грустной повести похорон «вишневого сада», говорит, что странный, далекий звук «лопнувшей струны», от которого вздрагивает вся компания «вишневого сада», был уже раз «перед несчастьем». «Перед каким несчастием?» — спрашивают его. — «А перед волей», — отвечает он.
Несчастие Фирса есть несчастие всего «вишневого сада». Пришла «воля», т. е. свобода исследования, веры, стремлений, труда. Они же, обитатели «вишневого сада», были счастливы тем, что все у них было готовое: хлеб, идеи, верования, убеждения. Воля перевернула все. Она отняла у них бога и поставила им непосильную задачу — найти смысл жизни, после того как традиционный смысл ее был уничтожен… Ужас воли есть ужас бессмыслицы. Догмат представлял собой руководящий, направляющий смысл. Но пришла «воля». Прикосновением своим она опрокинула догмат, и жизнь превратилась в череду тревожных дней, лишенных смысла, с неизбежным аукционом на конце.
Они живут, обитатели «вишневого сада», как в полусне, призрачно, на границе реального и мистического. Хоронят жизнь. Где-то «лопнула струна». И самые молодые из них, едва расцветающие, как Аня, словно принаряжены во все белое, с цветами, {249} готовые исчезнуть и умереть. Сейчас запоют ангельскими голосами отходную, пахнет вишневым цветом неумирающего сада, и унесут в глубь, в недра земли, вытянувшиеся, недвижимые тела с заостренными лицами.
В «Вишневом саду» есть одна замечательная фигура — компаньонка Шарлотта Ивановна. Она худощавая и, мне представляется, нескладывающаяся, деревянная. Шарлотта Ивановна замечательна, главным образом, тем, что показывает, нужно ли, ненужно ли, разные фокусы. Эти фокусы, о которых Пищик восторженно возглашает: «подумайте!» — единственное развлечение и быть может единственный комический элемент пьесы. Но эти фокусы приклеены к действительности — грустной и однообразной — обитателей «вишневого сада». Все радости жизни таковы. Фокусы, лишенные объединяющего их с жизнью смысла. Жизнь, идущая к аукциону, сама по себе, а произвольно вызываемые фокусы — тоже сами по себе, и занимательность не выше фокусной — удел тех минут, когда отрываешься от мысли о бесплодности борьбы, ничтожестве стремлений и неизбежности конца.
III
Итак, почти все чеховские герои — а персонажи чеховских пьес сплошь интеллигенты — живут в постоянном нервическом беспокойстве, в ожидании {250} неизбежности какого-то предначертания. Конечно, много повлияло в этом отношении на Чехова тщательное изучение Метерлинка. Он пишет в одном из писем: «Читаю Метерлинка — чудные вещи». Но постепенно его охватывает эта «чудность». Всматриваясь в жизнь окружающей его среды, он все больше и больше проникается мыслью о бесплодности интеллигентских порываний. И до Метерлинка Чехов уже это чувствовал. Иванов, кажется, говорит о смысле своей жизни: «сижу и жду околеванца». Это общая форма всех обреченных чеховских героев. В «Чайке» молодой Треплев начинает с мучительных поисков нового. «Новые формы нужны, новые формы… А если нет нового, то ничего не нужно». Старые пути жизни испытаны своей бессмыслицей. В самой общей форме предугадана из грядущих далей трагическая страница ликвидации. Кто эта Нина Заречная? Просто «Чайка»? Чайка персонально? Или это символическая птица, летающая над болотом, в необозримых степях азиатчины? И этот самодовольный Тригорин, обработавший «Чайку» как «сюжет для небольшого рассказа», просто русский писатель или обобщенный представитель либерально-пустопорожней интеллигентской мысли? В самом деле, это было у Треплева только «формой» литературы, или в этом Порыве к изменению форм был крик отчаяния, потому что уже ясно виделось, к чему приведет старая тригоринская литература и ее традиционная {251} основа? Быть может, самый провал «Чайки» в Петербурге и бешенство публики произошли не только по причинам театрально-художественным, но и потому, что было что-то неприятно раздражающее в этой попытке обнаружить и показать трагический исход русской тригоринско-интеллигентской банальщины, на которую как же можно покуситься? Ведь даже у Мережковского где-то читаем: «Первое слово России есть ее литература». Ну, а если это первое ее слово есть роковое слово вечного самообольщения?
Я уже отметил выше монологическую форму чеховского диалога. Похоже на то, что при данной конъюнктуре никто никому ничем помочь не может, и потому речи действующих только словесно выражаемые размышления. Разговора в истинном значении этого слова, когда один убеждает другого или сговаривается с другим, или когда единая мысль, направленная к единой или к единому действию, воссоздается частями в ансамбле участников, — такого разговора очень мало. Наивысшей формой отчужденности и невстречающегося параллелизма это достигает в беседе «земского человека» Андрея («Три сестры») с глухим сторожем Ферапонтом. Андрей изливает свои скучные признания, а Ферапонт несет вздор о каких-то легендарных морозах в тысячу градусов и т. п. Каждый тянет свою песню и в то время, как Вершинин поглощен мыслью о том, что через 300 – 400 лет жизнь {252} будет прекрасною, сестры вслух тоскуют о Москве, а Чебутыкину не дает покоя мысль, что быть может нам только кажется, что мы существуем. Они, эти герои Чехова, можно сказать — уже не существуют социально. Социально они мертвы, социально, т. е. действенно и совокупно они, утратили свою органическую природу. Закройте глаза и попробуйте социально сложить в некоторую действенную общность, в некий класс, как принято выражаться, Кулыгина, Тузенбаха, Чебутыкина, Андрея Вершинина, Соленого и пр. Вы тотчас же убедитесь, что это невозможно. Но то, что они очень своеобычны и своеобразны, и очень остро расходятся — пожалуй, наоборот. Они все, при своих особенностях, выкрашены одной краской и связаны какой-то липкой лентой общей тоски — но в них нет главного, что необходимо для срастания частей, — живой свежей ткани. Ткань мертвая, края атрофированы и сморщены. Такие не срастутся. Эти люди воистину несчастны. Во-первых, потому, что лишены радости, которую дает социальное сродство, ощущение общности и солидарности, а во-вторых, потому, что они не настолько умны, возвышенны, талантливы, образованны, горды и самолюбивы, чтобы в самом одиночестве своем находить источник самоуслаждения. Они мягкотелые и какие-то не завершенные, недоношенные, как восьмимесячный плод. Они ноют и стонут, и быть может мы были несправедливы к {253} ним, укоряя за нытье и стоны, ибо они наследственно таковы, от природы. Кроме таких нытиков и «стонатиков», есть еще ограниченная глупая честность врача в «Иванове» — «честный тупец», по тургеневскому выражению. «Будь она проклята, эта ограниченная честность!» Претенциозная в своей ограниченности, честность воображает, что, как говорится у Достоевского, на всевозможные вопросы имеет вполне готовые, всевозможнейшие ответы.