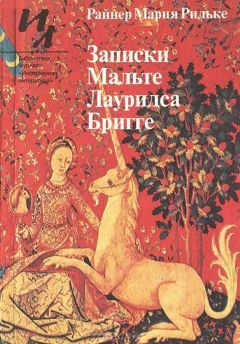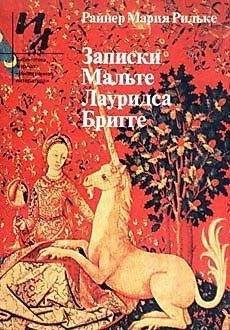Райнер Рильке - Флорентийский дневник
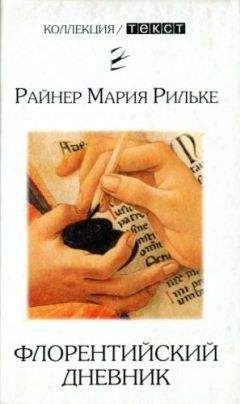
Помощь проекту
Флорентийский дневник читать книгу онлайн
И если к грекам культура приходила через глаза, то наша вызревает в переживании. Значит, мы должны прийти на помощь переживанию там, где они создали в драме безопасное убежище для глаз. Если аттическая трагедия требовала видимого хора, мы должны воспринимать (и пробовать создавать) современную драму, исходя из ощущения хора.
*Восторг, свойственный дионисийскому состоянию, уничтожающему обычные пределы и границы бытия, содержит в себе — пока он длится — элемент летаргии, в которую погружаются все личные переживания былого. Так благодаря этой пропасти забвения мир повседневной действительности резко отделяется от мира действительности дионисийской.
Жизнь дионисийская есть безграничная жизнь-во-всем, к которой будни относятся, как смехотворно тонкая облицовка. Но вот искусство дает нам понимание того, что эта облицовка предлагает единственную возможность время от времени вступать в великие взаимосвязи, простирающиеся поверх моментов и метаморфоз.
*Публика как толпа зрителей, какой мы ее знаем, была неизвестна грекам: в их театрах любой мог […], глядя вокруг, непосредственно видеть весь мир культуры и, наглядевшись досыта, мнить себя самого хоревтом[75].
Поскольку невозможно поставить перед группой людей некую действительность, которую каждый воспринимал бы так же, как другие, то между публикой и сценой должен быть помещен некий глаз, бесстрастно созерцающий все происходящее на сцене как правильное и подлинное. А публика должна выправлять по нему свое понимание действия, с его помощью стать одним большим телом, единодушно относящимся к сценическим событиям.
*Сатировский хор есть первым делом видение дионисийской массы, как, в свою очередь, мир сцены есть видение этого сатировского хора: сила этого видения достаточно велика, чтобы сделать взгляд глухим и невосприимчивым к сознанию «реальности», к виду разместившихся кругом на ступенях амфитеатра образованных людей.
Зритель узнает в хоре себя, освобождается от всего в себе случайного, временного, от своей культуры и постигает на этом окольном пути видение того хора, в качестве которого развертывается действие, — постигает его и в то же время преодолевает его груз.
*Теперь дифирамбический хор получает задачу дионисийски возбуждать настроение слушателей до такой степени, чтобы при появлении на сцене трагического героя они видели не человека под необычной маской, но видение, словно порожденное их собственным восторгом.
Значит ли это, что пляски и песнопения диких народов суть застывшие на подготовительной ступени дифирамбы, не умеющие дозреть до драмы?
*Великолепное «мастерство» великого гения, за которое даже вечное страдание — ничтожная цена, суровая гордость мастера — вот содержание и смысл эсхиловской поэзии, в то время как Софокл в своем «Эдипе», прелюдируя, запевает победный гимн святого.
Творческому деянию мастера равноценно лишь предсмертное страдание человека, непричастного к творчеству: великое насилие свершается в обоих случаях над подавленным человеком. Перед могилой святого пробудится к новой жизни столько же людей, сколько перед бессмертным творением мастера.
*Необходимо, чтобы сценическое действие было таким, которое вызывало бы переживание, возможное в опыте и в чувстве каждого отдельного человека и в своей насильственности объединяющее толпу зрителей как бы одним великим охватом. Дающее к этому толчок событие должно свершаться независимо от звания персонажей, среды и эпохи действия на какой-то второй, идеальной, сцене, представляющей собой арену той встречи, что совместно празднуют освобожденные, сблизившиеся на подъеме души зрителей. Действие, материал должны и в драме (а не только в живописи) вновь отойти на подобающий им второй план, очистив место для действительно художественного события. Сцена должна стать не более реалистичной, близкой к жизни, — а более призрачной и прекрасной. За действием должно маячить что-то общее людям (а не людям одного звания, одной эпохи, одной морали), людям вообще, как общее воспоминание, заставляющее их всех погрузиться в одно совместное детство, и там, а не в пределах относительно случайной сцены, должно разыграться нечто важное, нечто спасительное. Объединяющим началом должна быть не игра, а мелодия игры — ведь каждый отыщет тогда в своей памяти происшествия и переживания, разыгравшиеся в такт точно такой же мелодии (для которой эта пьеса — лишь одно из тысяч возможных толкований).
(Воскрешение Диониса)
*После полной борьбы зари, которой кончилась титаническая, всегда готовая к бою ночь, пришло утро — Гомер, давший вещам божественные пределы. И его солнце возложило на темя вещей возвышенную радость. Но весь этот лад, казалось, был создан, подобно прекрасному виду, лишь для шествия дионисийских гроз.
*Можно себе представить, что при той колоссальной скорости, с какой шло в Сократе внутреннее движение вперед, позади остались все логические возможности мышления, даже те, что могли бы подняться из глубин его бессознательного, — и оскудевшему инстинкту оставалось только голыми руками защищать, предостерегать, не пускать. Может быть, у логически весьма сноровистых и одаренных умов бессознательное по большей части предназначено для этой роли? И лишь когда в темнице (вследствие того, что его личность была исключена из общественной жизни) эта логическая сила оказалась не у дел, инстинкт робко настроился на лад — и изошел звуком тоски в предсмертном молчании. Его душа взалкала музыки[76]. И, что-то смутно предчувствуя, приложила свои иссохшие на ветру слов уста к чаше звуков. И может быть, сила, необходимая, чтобы умереть, пришла к нему не из прошлого, не из того, чем он занимался, а как раз из этого нового обетования; и вот он вошел в смерть, словно в следующий день, ибо чувствовал, что это будет день музыки.
*«Мы веруем в жизнь вечную!» — восклицает трагедия, в то время как музыка есть непосредственная идея этой жизни. Совершенно иная цель — у искусства пластического: здесь Аполлон преодолевает страдание индивидуума лучезарным величанием вечности явления, здесь красота берет верх над присущим жизни страданием, и боль в известном смысле хитростью изглаживается из черт природы.
В отношении поводов, по которым великая дионисийская музыка приложима к отдельным случаям как аллегорическая картина, можно сказать, что есть разные степени их значительности и что наиболее подходящий из них — это миф, а в особенности миф трагический. Трагическое невозможно вывести из сущности искусства как прекрасной видимости, и лишь музыка может объяснить ликование при виде гибели индивидуума. «Мы веруем в жизнь вечную!» — восклицает трагедия, в то время как музыка есть непосредственная идея этой жизни.
В пластическом искусстве Аполлон преодолевает страдание индивидуума величанием вечности явления, в то время как дионисийское празднует как раз вечное бегство явлений.
*То же злоупотребление, что творят с музыкой, дополнительно делая программным (шум битвы и т. д.) это единое явление, можно проследить и в лирике: когда музыку понимают тут (как я пытался делать раньше) в смысле того первичного ритма заднего плана, вслушивание в который открывает дорогу лирическому порыву, довольствующемуся, если этот ритм удержан, всплывающими картинами. Стихи, как правило, не картины, насильно добытые восторгом перед проносящимся мимо свежим потоком неизвестно откуда взявшейся музыки, не мельничные колеса, движимые яростью падающего ручья, но мельницы, к которым надо издалека, с огромным трудом, подводить косную воду, вяло и сонно сообщающую им движение. Как только заслышится первый шорох ритмов — нужно держать наготове все сосуды, чтобы, не расплескав, принять текучую силу; нужно подставить все ткани под сияние этого неба, чтобы они вобрали золотые нити в плетение основы, торжественно проявляя узор.
*Трагический миф можно понять только как образное воплощение дионисийской мудрости средствами аполлонического искусства […]
Стр. 127[77]. Уже до трагического мифа должно существовать то «музыкальное» действие, что представляет собою арену, на которой встречаются зрители, гонимые друг к другу ощущением единства. Как античный хор вершит свои дифирамбические пляски на приподнятой площадке, так и чувство должно, танцуя, смотреть на игру с возвышения души того одного зрителя, что словно чудом возникает из сотен людей. Я положительно ощущаю, что этот хор должен быть воздвигнут внутри зрителя — не внутри отдельного зрителя, но внутри нежданно возникшей праздничной общности всех, которая должна сложиться в ходе пролога перед началом драмы. Лишь когда в зале будет, ожидая, сидеть не пять сотен нынешних зрителей, а один-единственный, вневременный — тогда и будет иметь смысл поднимать занавес.