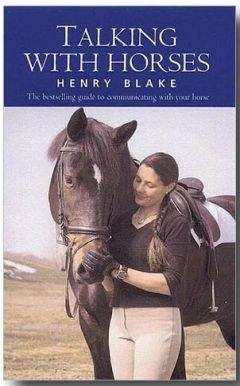Йозеф Рот - Направо и налево
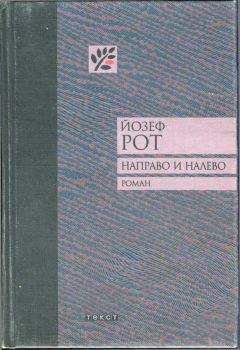
Помощь проекту
Направо и налево читать книгу онлайн
Пауль искал какое-нибудь противоядие от этой мысли. По своему опыту он знал различные средства от гнетущих мыслей, как больной, который испробовал уже все лекарства против приступов боли. Он сел в автомобиль, приехал домой, быстро упаковал чемодан и направился на вокзал. Он поздравил сам себя с этим внезапным решением, которое спасало его от бессонной ночи. Ему захотелось к матери.
Увидев Пауля, прибывшего ранним утром, госпожа Бернгейм испугалась. Она стояла в кухне и присматривала за тем, как служанка готовит завтрак. Пауль вспомнил, что раньше, при жизни отца, ей подавали завтрак в постель. Она сидела прямо, с четырьмя подушками за спиной, под голубым балдахином, и играла в «королевское величие». Широкий поднос достигал ее груди, скрытой облаками кружев. В полутемной комнате, куда свет утреннего солнца попадал сквозь решетку жалюзи узкими яркими полосками, парил нежный аромат одеколона и лимона. Воспоминание об этих утренних часах хватало за сердце, как воспоминание об утерянном счастье. Теперь мать стояла в коричневом плюшевом халате; чтобы держать его запахнутым, госпоже Бернгейм приходилось скрещивать на груди руки. С войны, начав экономить, она каждое утро присматривала за служанкой, чтобы та не слишком много расходовала кофе.
— Возьми еще ложечку кофе, Анна, только не столовую ложку! — воскликнула она, когда вошел Пауль. Испугавшись неожиданного появления сына, госпожа Бернгейм в то же время обрадовалась, что он не приехал на полчаса позже. Иначе пришлось бы еще раз зажигать газ.
Над висками ее висели две пряди седых волос — два потока забот, две боевые тропы старости. Блестящий кафель придавал белому свету кухни безжалостную резкость и холод; в этом свете лицо госпожи Бернгейм казалось блеклым и распавшимся, будто разные его части можно было отделить друг от друга: крепкий квадратный подбородок от губ, нос от щек, лоб от остальной части головы. Поседевшие брови выглядели более старыми, чем волосы, будто возникли раньше их, а глаза, в которых светилась еще былая красота — без надобности и как непритязательный квартирант, — лежали между отекшими припухлостями, появившимися от слез и сна. Голос матери показался Паулю на несколько тонов выше; в воспоминаниях он был мягче, словно раннее утро стало причиной его ломкой звонкости и будто происходило это от жесткого блеска кафеля. На газовой плите холодно, словно за оконным стеклом, горел голубоватый огонек под кастрюлей. Пауль не помнил, чтобы когда-нибудь прежде ему приходилось бывать в кухне ранним утром. Это было маленькое разоблачение. Словно он напал на след печали этого дома, будто обнаружил источник его скорби — кухню.
Госпожа советница Военной высшей счетной палаты пришла позже, много позже. Утром она опиралась на трость, медленно приучая себя к ходьбе, к движению, к которому после неподвижности ночи принуждал ее день. Всю тяжесть ее старого тела приняла на себя трость, ноги лишь следовали за ней, поддерживая советницу. Она предстала перед Паулем как воплощение траура, который опустился на его родной дом. Он начал ее бояться.
Пауль позавтракал в большой спешке и отправился в город. Он хотел вернуться ближе к вечеру. При всей этой дневной суете ему казалось невозможным находиться дома. Пока он бездумно и устало брел по пустым еще улицам, время от времени озираясь, ему пришло в голову, что мать может сегодня умереть. Он представил себе мертвую мать и не испытал никакой грусти. Пытаясь объяснить себе свое равнодушие, он поймал себя на том, что хотел бы увидеть ее мертвой. Невозможно соединить ее с Ирмгард. Невозможно привести Ирмгард в этот дом.
Пауль вернулся на исходе дня. Он сообщил матери о помолвке, о своей предстоящей помолвке с Ирмгард Эндерс. «Эндерс?» — спросила мать и подняла лорнет, будто могла на лице Пауля прочесть сведения о происхождении семьи Эндерсов. Нет, она не была в восторге. Она не знала никаких Эндерсов.
— Это богатейшие люди в стране, — объявил Пауль. При этом он думал о тщеславии своей матери. И заблуждался. Что касается сына — это было из другой оперы, затрагивало другую ее страсть. Впервые за много лет госпожа Бернгейм выговорила:
— Деньги — это не все, Пауль.
Он был поражен.
— Это большая удача, мама, — сказал Пауль.
— Это можно будет сказать лишь через десять лет, — ответила она с мудростью, которая исходила не от нее, а, казалось, вытекала из материнства вообще.
Пауль обещал привести свою невесту.
— Приведи же ее, приведи! — сказала госпожа Бернгейм.
Однако он не привел ее. Никогда.
Между тем случилось нечто новое.
XVI
Амнистия позволила Теодору Бернгейму и его другу Густаву вернуться домой.
Они приехали в Германию пасмурным утром из солнечной и ясной Венгрии, где весна уже прочно обосновалась. Сама природа позаботилась о том, чтобы сохранить в возвращающихся тоску по приятному изгнанию. У Густава было загорелое лицо, быстрые и решительные движения. Возвращаясь в Германию, он лишь повиновался принятым правилам. Теодор был бледен и тороплив, его руки суетливы, стекла очков треснули. Для него это был не просто испорченный инструмент, а скорее поврежденный орган. Его слабые плечи тяготил груз перемен, связанных с возвращением на утерянную родину. В таком положении мужчина и истинный немец должен быть меланхоличным и веселым, испытывать чувство горечи и зрелой уверенности, полниться надеждами и энергией. Какая куча обязанностей! Время от времени Теодор посматривал на своих попутчиков, чтобы проверить, производит ли на них впечатление его драматическая фигура.
— Из всех этих соотечественников, — сказал он Густаву, — никто так не переживает, как мы. Они едут по своим делам, будто ничего не случилось; каждый думает о своей службе, и никто — о Германии.
— Не болтай чепухи! — ответил Густав.
Теодор замолчал. Давно уже — с тех пор как они покинули страну — возненавидел он своего товарища Густава. Собственно, Густав виноват в их побеге. Это Густав вовлек его в преступление и стал причиной изгнания. Густав-то чувствовал себя там прекрасно, Густав был невозмутим, Густава ни о чем не задумывался, Густав не читал книг, Густав не любил разговаривать, Густав высмеивал Теодора, Густав не питал к нему никакого уважения. Если бы Теодор мог отделить свои чувства от своего мировоззрения, ему пришлось бы признаться, что его единомышленник более ему ненавистен, чем любой политический противник. Однако он должен был все движения чувств, все переживания и события приводить в соответствие со своими убеждениями, с Германией, с евреями, с миром, с внутренними и внешними врагами, с Европой. Потому-то он был рядом с Густавом. По этой причине он каждый раз начинал дискуссии, на которые у Густава был вечный ответ: «Не болтай чепухи!» Не будь Густав таким молодцом, говорил себе Теодор, я стал бы его презирать. Но так как Густав был «такой молодец», приходилось его ценить.
На вокзале они простились. Ссылка нашла здесь свой конец. Общность убеждений и жизни на чужбине была все же не так сильна, как мысли об отцовском доме, которые возобладали в тот миг, когда они предъявили свои билеты. Родной город несся навстречу. Он состоял из тысячи безымянных запахов, которым не было дела ни до политики, ни до нации, которая его населяла, ни до расы его жителей. Он состоял из тысячи неопределимых звуков, которые, смешанные с детством, жили в памяти, не давая о себе знать до сего дня, и лишь теперь внезапно и мощно откликались на родственные шорохи и шумы. Родина посылала возвращавшимся одну за другой хорошо знакомые им улицы, в которых не было ничего общественного, ничего всеобщего, никаких идеалов, никаких убеждений, никаких увлечений, — ничего, кроме личных воспоминаний. Густав, более здоровый и простой, покорился им, забыл, почему он покинул родину и каким образом теперь возвращался. Теодор, однако, находил, что потеряться в личном — недостойно его. Он боролся с воспоминаниями, с шорохами, с запахами. И даже в этот час ему удавалось чувствовать себя фактором общественным, свое возвращение воспринимать как призыв нации, свой родной город — как кровью пропитанную и порабощенную землю, и когда Теодор наконец свернул на улицу, откуда виден был его дом, ему было только любопытно увидеть свою мать и узнать о скорби, которую могло причинить ей его долгое отсутствие, — не более чем любопытно.
Она вышла на порог, чтобы встретить сына. Она забыла все сцены, все часы, когда ее материнская забота о неудачном ребенке превращалась во враждебную и горькую насмешку. Сейчас она знала только одно — ее ребенок возвращается. Ничего больше. Час возвращения слегка напоминал час его рождения, оживлял давно уснувшую боль в лоне и сердце. Она обняла его, не целуя. Голова Теодора лежала на плече матери. Слезы наворачивались на глаза, сердце его колотилось. Сжав зубы, с раскрытыми глазами за треснувшими стеклами очков он старался остаться «мужчиной». Растроганность была ему некстати, как и любовь матери. Лучше бы мать встретила его так же холодно, как однажды дала ему уйти.