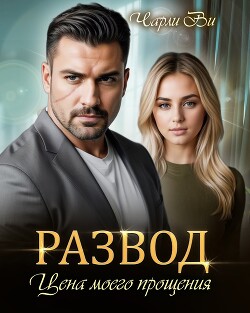Зинаида Гиппиус - Чего не было и что было

Помощь проекту
Чего не было и что было читать книгу онлайн
Попик очень серьезно на него поглядел, очень серьезно, и как-то совсем просто, сказал:
— Мне что хотеть; что Господь хочет. Не хочет Господь, чтоб я рыжей кобыле кланялся, так я и не кланяюсь.
Поп этот, — отцом Виринеем (Иринеем?) он назвался, — сильно стал меня изумлять. Главное, совершенным своим уверенным спокойствием, веселостью даже. Я все-таки думал: не понимает. Ведь чепуха же, пьяные, рыжая кобыла… и сюда. Эдакая чепуха!
Но он отлично понимал. Он каждый день, — я видел, — готовился. Придут в камеру — он ничего. Уйдут (еще не сегодня, значит!), он опять ничего. Я все ждал: посидит, осмотрится, схватится?.. Нисколько. В грязи нашей, в духоте, в вони, в гаме, в вое, — сидит себе на полу, на мешенке (тулуп у него не то свистнули, не то сам отдал кому-то), шепчет, — молитвы, очевидно, читает, — а лицо приятное, будто так и надо.
Теперь позвольте досказать кратко, впрочем, и время было краткое: может, неделя, а может, дней десять. Заинтересовало меня чрезвычайно, как он не поберег себя из-за такого вздора, да мало себя — старуху-попадью бросил, прихожан своих покинул, — а хорошие, говорит, были из них, жалко! — и теперь так умеренно готовится, не боится.
Выспрашивал; но он немногословен был насчет этого, точно не понимал, чего тут можно не понимать. «Да меня же, — говорит, — Сын человеческий постыдился бы; какая же мне была бы польза?» «Это вы про Христа, что ли, отец Вириней?» «А про кого же? Никакому человеку нет пользы сберегать себя, хуже потеряет».
Через краткие слова, а больше через то, что я воочию видел, какая ему польза, — вошло все это в меня клином. Так занялся, что и тоска — ничего, и камера — ничего; все слышу, вижу, понимаю, как оно ужасно, а ужаса не чувствую. Даже сроднились они у меня, и Вириней, и гам, и ожидание, — не сегодня ли? Столяр будто не слушал нас, но, должно быть, слушал: затих ругаться. И про других я стал замечать, которые дольше сидели; нет-нет — тянутся в наш угол.
Под конец, как вспоминаю, я совсем утерял время: будто это навсегда, и камера, и выводы, и Вириней, и я. Между тем не удивился, когда пришли, — спешкой, как обычно, — и в счет попал Вириней. Я только вскочил за ним, и, когда солдат оттолкнул меня прикладом от него и от столяра (столяр тоже попал), я остался в каком-то недоумении. Виринеева лысая голова была еще близко, обернулся ко мне, ручкой помахал: «Прощай, миленький! Я ведь ненадолго! Прощай, до воскресенья!» Кричу ему — что? когда? А он опять, уж из толпы, сквозь стук и вой: «До воскресенья! До воскресенья только!»
Мальчишка дикий так тут завизжал пронзительно, по-бабьи, что все заглушил, да визжал, без перерыва, минут десять. Уж давно ушли, а он все визжит. Я уши сначала заткнул, а потом привык, — хоть бы и навсегда это визжанье около меня.
Хорошенько не помню, а, кажется, на другой же день попал в партию и я.
Подробно не рассказываю, не стоит; действительно, по дороге ввели меня к Гросману: только вышло это молниеносно; он на меня взглянул, я на него, и сказал ему всего два слова — он тотчас дверь открыл: «Присоединить!» и меня присоединили.
Думал, поведут нас куда-нибудь в подвал…. Нет, наружу вывели, на грузовик, и повезли. Ночь была теплая, весенняя, воздух меня почти обезпамятил. Везли долго, я мало что понимал, от воздуха. Кто-то сказал рядом: «Теперь до воскресенья последние…» И я обрадовался, что «до воскресенья»…
Помню едва-едва, что ужасная была спешка; сырая земля; густые кусты. Потом мелькнули огоньки; и все.
Вам неизвестно, но поверить мне можете: существовали тогда такие люди, — разные, между ними девушки интеллигентные, — которые брали на себя опасное дело, прямо смертельное: где расстрел (тогда часто это под городом, в укромных местах) — они, при малейшей возможности, старались пробраться туда — сейчас после. Потому что в горячие времена, при спешке, ночью, — постоянно оставались недостреленные. Забросают пока валежником, или чем, — и назад. Чтобы как следует — приезжали потом.
Было излюбленное место, — мое, — там кустов много. Туда и ходили эти, у кого я, после, раненый лежал, в домишке ихнем, в поселке, недалеко. Выжил, без доктора, и ничего, по веснам только грудь болит.
Их — не семья, разные люди; профессор был, две курсистки. Одна барышня с архитектурных курсов, дьякон кладбищенский… Но поверьте, никогда я таких людей ни раньше, ни после не видал. В ихней лачужке я окончательно и привел в порядок все, что с собой из камеры унес и через кусты протащил. Без них… да что говорить, что было бы без них! А они еще помогли, — научили.
Летом, едва поправился, ушел на Финляндию. Нельзя было, ради них. И так двое, еще при мне, пропало.
Вот я и говорю: что клином вошло, того выбить нельзя. И уж оттуда, где мой Вириней, я не уйду до самой… до самого воскресенья, как он говорил. То есть из церкви православной. Я и здесь-то осел, хотя трудно было устроиться, потому что здесь храм. Но скажу вам по совести: в здешнем храме не все мое сердце. Я начал с того, что слишком хорошо поют на «рю Дарю». И повторяю: слишком. Для меня, по крайней мере. Как вам выразить? Сидел Вириней на полу, на асфальте черном, камера гамела, выла, ревела, выводов ждала, безумствовала, — и осталось это во мне цельно; но не ужасом осталось, а так — будто прислушаться… и где-то под визгом, под ревом, услышишь ангельское пение…
Здесь же оно, почти что ангельское, прямо дается, не нужно и прислушиваться: всякий сразу тронут. Камеры никакой будто на свете не бывало. А ведь она есть. И все мне чудится, что сторонкой ее не обойти, не сделать, как ни старайся, чтоб ангелы с неба прямым путем нисходили…
Может, искушение, но вам признаюсь: когда уж очень хорошо поют, душа в горния унесется, — вдруг я, сквозь ангельское то пение, начинаю тот вой и рев слышать. И ужасаюсь…
Вы улыбнетесь, а я раз даже сон видел: стою будто, в храме, благолепие; поют — ну, концертно. А рядом Ириней, как был, в дырявом ватном подряснике, и лысой головой качает, шепчет мне в ухо, чего ты, маленький, здесь, ведь некогда! А слушать — лучше услышишь, потерпи до воскресенья…
МЕМУАРЫ МАРТЫНОВА
Писать я никогда не пробовал. Бывало, конечно, гимназистом, стишки, потом доклады по специальности, но чтобы историю какую-нибудь написать, повесть, — нет, этого не приходилось. Но разве так трудно? Выдумай, представь себе что-нибудь — и пиши.
А мемуары еще того легче, не нужно и выдумывать. Теперь все пишут мемуары, мне тоже захотелось. Но если приняться всю жизнь свою описывать, себя, — невозможно! Никакого терпения не хватит. И я, поразмыслив, решил сделать выбор: ограничиться моими любовными историями. Тоже будет длинновато, хоть и не все записывать, но сюжет веселее, а, главное, о себе можно не так распространяться. Сказать только, что вот, Иван Леонидович Мартынов, человек обыкновенной наружности, долговязый, из интеллигентной семьи и сам интеллигент, по профессии… ну хоть свободный философ, — и довольно. Остальное не важно. Не в том ведь какой я — дело. И вообще не во мне. И даже не в тех, кого я любил.
В самой любви дело.
1 СашенькаЭто, первое, — не история, конечно. Так, эпизод. Но уж начинать, так сначала.
Сижу за столом за книжками. Но смотрю не в книжку, а прямо перед собой, — в окно, окно деревянного домика нашего выходит в палисадник. Там высокий снег, неровные сугробы, серовато-белые, со звездистыми, слабыми птичьими следами. Потом забор, над забором прутья акации, над акациями крест нашей остоженской церкви и белое, зимнее, бесцветное небо. Оно похоже на палисадничные сугробы, только ровное. Крест, хотя и золотой, тоже какой-то мутный: все мутное, скучное и даже страшное.
Впрочем, страшно оно стало тогда, когда я подумал: а вдруг бы так навеки осталось: небо вроде земли, земля вроде неба, крест над забором, я за окном? Все так — без конца?
Да страшно… А, может, и ничего бы? Может, если не останется, еще страшнее? Ведь неизвестно, что еще будет. Мне только двенадцать лет, жизни ужасно много, совсем неизвестной. Положим, могу скоро умереть. Я часто болен, в гимназию даже не хожу, только весной сдаю экзамены, а занимаюсь дома. Ну, если умру — другое дело. И отлично бы! Все тогда разъясняется.
Я об этой смерти думаю теперь часто; неподолгу, правда, но с удовольствием. Именно потому, что тогда все разъясняется. А то все путаница; если хорошее — из него ничего не выходит; даже вообразить нельзя, что из него может выйти. Даже вообразить!
Ну, это небо со снегом я решил запомнить. Хотя не знаю, для чего.
Дверь отворилась, срыву. Конечно, Надя. И чего лезет? Я младший. Вова уже студент, а Надя весной кончила гимназию. Воображает. Кривляется. О, как я ее ненавижу!
Ваничка, Иванушка-дурачок, опять сычом сидишь?
А тебе что нужно?
— Ничего. Пойди туда. Там Сашенька.
Я чувствую, что краснею, оттого еще больше краснею, уши даже заливает. Но смотрю строго и зло на круглое Надино лицо с ямочками на щеках, на розовое жемчужное ожерелье (фальшивое) и спрашиваю: