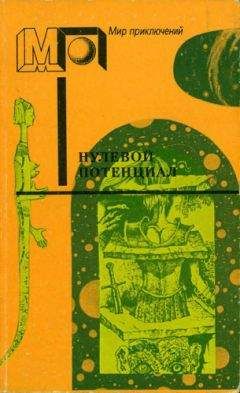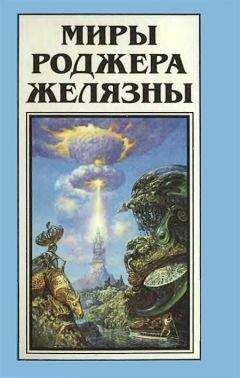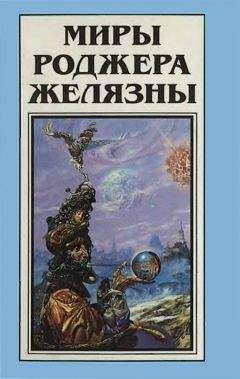Жан-Поль Сартр - Слова
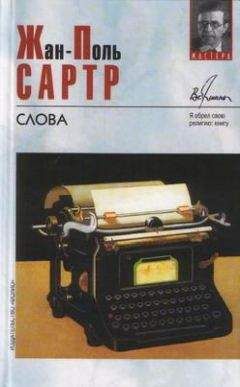
Помощь проекту
Слова читать книгу онлайн
Лет двадцать назад Джакометти, переходившего вечером площадь Италии, сшибла машина. Раненный, с вывихнутой ногой, в обморочном ясновиденье, он прежде всего ощутил нечто вроде радости: «Наконец что-то со мной случилось!» Человек крайностей, он ждал худшего; жизнь, которую он любил беспредельно, не желая никакой иной, была перевернута, быть может, поломана дурацким вторжением случая. «Ну что ж, — подумал он про себя, — не судьба мне быть скульптором, не судьба жить, я родился попусту». Но его привело в восторг, что миропорядок внезапно обнажил перед ним свою угрожающую сущность, что он, Джакометти, уловил цепенящий взор стихийного бедствия, устремленный на огни города, на людей, на его собственное тело, распростертое в грязи. Скульптору всегда представляется близким царство мертвой природы. Меня восхищает подобная готовность к восприятию. Если уж любить внезапности, то любить их именно до такой степени, до этих редких озарений, раскрывающих любителям, что земля создана не для них.
В десять лег я не мечтал ни о чем ином. Мне хотелось, чтоб каждое новое звено моей жизни возникало внезапно, пахло свежей краской. Я был заведомо согласен на препоны и невзгоды; справедливости ради следует сказать, ч то я принимал их с улыбкой. Однажды вечером погасло электричество авария; меня окликнули из другой комнаты, расставив руки. я пошел к двери и, с силой стукнувшись о створку, выбил зуб. Меня это позабавило; несмотря на боль, я засмеялся. Как Джакометти смеялся через много лет над своей ногой, но по причине, диаметрально противоположной. Поскольку я заранее решил, что у моей истории счастливая развязка, все неожиданное играло роль приманки, новизна — обманчивой видимости, порядок вещей был отрегулирован заранее потребностью народов, вызвавшей меня к жизни: в сломанном зубе я усмотрел знак, скрытое предупреждение, которое будет понято мною позже. Иначе говоря, в любых обстоятельствах, любой ценой я сохранял веру в целесообразность. Рассматривая свою жизнь сквозь призму кончины, я представлял ее себе замкнутой памятью: ничто лишнее не могло в нее проникнуть, ничто нужное не могло из нее выпасть. Можно ли вообразить положение надежнее? Случайности не существовали — по воле провидения я сталкивался только с их подобиями. Судя по газетам, улицы таили смертельную, неведомо откуда возникавшую угрозу для обыкновенного человека; мне. чья судьба предопределена, бояться нечего. Не исключено, что я потеряю руку, ногу, глаза. Но к этому можно отнестись по-разному: несчастья будут искусом и материалом для книг. Я научился терпеливо сносить огорчения и болезни, я видел в них первые признаки моей триумфальной смерти, ступени, которые она вытесывала, чтобы поднять меня до себя. Эта грубоватая заботливость была не лишена приятности, мне хотелось стать достойным ее. Чем хуже — тем лучше, считал я; даже от моих ошибок была польза, и, значит, я их не совершал. В десять лет я был самонадеян; скромный и несносный, я не сомневался, что мои поражения залог посмертной победы. Пусть я ослепну, потеряю ноги, собьюсь с пути, чем больше сражений я проиграю, тем верней выиграю войну. Я не делал никаких различий между испытаниями, предначертанными избранникам, и неудачами, за которые я сам нес ответственность, — поэтому мои провинности казались мне, в сущности, злоключениями, а в невзгодах я усматривал собственный промах; в самом деле, если я подхватывал болезнь — будь то корь или насморк, — я заявлял, что сам виноват: не проявил должной осмотрительности, забыл надеть пальто или шарф. Я предпочитал обвинять себя, а не мир; не по доброте душевной, но чтобы зависеть только от себя самого. Надменность не исключала смирения; я тем охотнее признавал свои слабости, что они обеспечивали мне кротчайший путь к добру. Это было удобно — движение жизни неодолимо влекло меня за собой, вынуждая непрерывно совершенствоваться, хочу я того или нет.
Всем детям известно, что они делают успехи. Впрочем, им не позволяют об этом забыть: «Добивайся успеха», «Он успевает», «Регулярные и серьезные успехи…» Взрослые излагали нам историю Франции: после Первой республики, не слишком надежной, пришла Вторая, а затем Третья — на этот раз хорошая: бог троицу любит. Сводом буржуазного оптимизма была в ту пору программа радикалов: рост изобилия, устранение пауперизма путем распространения знаний и системы мелкой собственности. Нам, молодым господам, этот оптимизм преподносили в приспособленном для нашего возраста виде, и мы с удовлетворением замечали, что наши индивидуальные успехи воспроизводят успехи нации. И, однако, только немногие из нас хотели пойти дальше своих отцов, для большинства все сводилось к достижению зрелости, после чего рост и развитие прекратятся, зато окружающий мир сам по себе сделается лучше и комфортабельней. Некоторые ждали этого момента с нетерпением, иные со страхом, иные с грустью. Что касается меня, то до посвящения в сан я относился к росту с полнейшим безразличием — мне было начхать на право облачиться в тогу совершеннолетия. Дед находил меня маленьким и огорчался. «Он пошел в Сартров», — говорила бабушка, чтобы его позлить. Шарль делал вид, что не слышит, ставил меня перед собой, мерил взглядом и произносил, наконец, не слишком убежденно: «Он растет!» Я не разделял ни его озабоченности, ни его надежд: ведь и дурная трава быстро растет; можно стать большим, оставаясь дурным. Для меня в ту пору самое главное было остаться хорошим in aeternum[6]. Но все изменилось, когда моя жизнь приобрела ускорение: поступать хорошо было уже недостаточно, стало необходимо с каждым часом поступать лучше. Я подчинил себя одной заповеди — карабкаться вверх. Чтобы дать пищу своим претензиям и замаскировать их непомерность, я поступал, как все: в моих нетвердых детских успехах усматривал предвестия своей судьбы. Я действительно делал успехи, незначительные и вполне обычные, но они создавали у меня иллюзорное ощущение подъема.
Ребенок, привыкший работать на публику, публично я придерживался мифа своего класса и своего поколения: человек извлекает пользу из приобретенного, накапливает опыт, настоящее богато уроками прошлого. Наедине с самим собой я этим отнюдь не удовлетворялся. Я не мог согласиться с тем, что бытие даруется извне, сохраняется по инерции, что любое движение души есть следствие предшествующего движения. Весь, целиком, я был порожден грядущим ожиданием, оно наделило меня лучезарностью, я мчался вперед, и каждое мгновение вновь и вновь повторяло ритуал моего появления на свет; я рассматривал свои сердечные порывы, как искры внутреннего огня. Чем же я могу быть обязан прошлому? Не оно меня создало, это я, напротив, восстав из пепла, исторгал из небытия свою память, воссоздавая ее снова и снова. Я возрождался всякий раз лучшим, я пробуждал и полнее использовал еще нетронутые запасы своей души по той простой причине, что смерть, надвигавшаяся неотвратимо, все резче озаряла меня своим темным светом. Мне часто говорили: прошлое нас подталкивает, но я был убежден, что меня притягивает будущее; мне было б ненавистно ощутить в себе работу размеренных сил, медленное созревание задатков. Я загнал плавный прогресс буржуа в свою душу, я превратил его в двигатель внутреннего сгорания; я подчинил прошлое настоящему, а настоящее будущему, я отринул безмятежную эволюционность и избрал прерывистый путь революционных катаклизмов. Несколько лет назад кто-то отметил, что герои моих пьес и романов принимают решения внезапно и стремительно — к примеру, в «Мухах» переворот в душе Ореста происходит мгновенно. Черт побери, я творю этих героев по своему образу и подобию; не такими, разумеется, каков я есмь, но такими, каким я хотел бы быть.
Я сделался предателем и им остался. Тщетно я вкладываю всего себя во все, что затеваю, целиком отдаюсь работе, гневу, дружбе — через минуту я отрекусь от себя, мне это известно, я хочу этого и, радостно предвосхищая измену, уже предаю себя в самый разгар увлечения. В общем, я держу слово не хуже других, но, будучи постоянным в привязанностях и манере поведения, не храню верности эмоциям: было время, когда любой памятник, портрет или пейзаж мне казался самым прекрасным потому только, что я видел его последним; я сердил друзей, цинично или просто небрежно посмеиваясь — чтоб убедиться, что меня все это больше не трогает, — над каким-нибудь общим воспоминанием, по-прежнему дорогим для них. Недолюбливая себя, я убегал вперед; в результате я люблю себя еще меньше, неумолимое поступательное движение непрерывно обесценивает меня в собственных глазах — вчера я поступил плохо, ибо это было вчера, и я предвижу сегодня, сколь суров будет завтра мой приговор себе. Главное, никакого панибратства: я держу прошлое на почтительном расстоянии. Отрочество, зрелость, даже истекший год — все было до переворота; сейчас грядет новое царство, но настанет оно, когда рак свистнет. Первые годы жизни в особенности вымараны мной начисто; взявшись за эту книгу, я вынужден был потратить много времени на расшифровку перечеркнутого. Когда мне было тридцать лет, друзья удивлялись: «Можно подумать, что у вас не было ни родителей, ни детства». Болван, мне это льстило. И, однако, я люблю, уважаю смиренную и цепкую преданность вкусам, желаниям, давним замыслам, отошедшим радостям, присущую некоторым людям — особенно женщинам, я восхищаюсь их стремлением сохранить верность себе при всех переменах, сберечь память о прошлом, унести в гроб первую куклу, молочный зуб, первую любовь. Я знавал мужчин, которые на склоне лет сходились с постаревшей женщиной потому только, что желали ее в юности; другие не прощали обид даже мертвым и, хоть тресни, не соглашались покаяться во вполне простительном грехе, совершенном двадцать лет назад. Я не злопамятен и готов все признать; у меня прекрасные данные для самокритики, при одном условии — чтоб мне ее не навязывали. В 1936 или в 1945 году кто-то досадил человеку, носившему мое имя: какое мне до этого дело? Его оскорбили, он утерся; я списываю это по графе его убытков — дурак, не умел даже заставить уважать себя. Встречает меня старый друг, излагает претензии: вот уже семнадцать лет, как он на меня в обиде, при таких-то обстоятельствах я был невнимателен к нему. Смутно помню, что нападал, защищаясь, что упрекал его тогда в чрезмерной подозрительности, в мании преследования — короче говоря, у меня была собственная версия случившегося; тем охотней я принимаю теперь его точку зрения: я с ним полностью соглашаюсь, я виню во всем себя: я держался, как человек тщеславный, эгоистичный, я бессердечен; весело рублю направо и налево. наслаждаюсь тем, что все понял; раз мне так легко признать ошибки — значив, я не могу их повторить. Поверите ли? Моя лояльность, легкость покаяния только раздражают истца. Он. мол, меня раскусил, я над ним издеваюсь. Он сердится на меня — на нынешнего, прошлого, такого, каким он меня знает всю жизнь. Всегда одного и того же, а я оставляю ему недвижные останки ради удовольствия ощутить себя новорожденным. Кончается тем, что меня тоже разбирает злость на этого одержимого, выкапывающего трупы. И напротив, если кто-нибудь напоминает мне случай, когда я, говорят, не осрамился, жестом прекращаю разговор; меня считают скромным, ничего подобного, я просто уверен, что сегодня поступил бы лучше, а завтра — гораздо лучше. Пожилым писателям обычно не по вкусу слишком рьяные хвалы их первому произведению, но, безусловно, меньше всех это радует меня. Моя лучшая книга — та, над которой я работаю; затем следует только что опубликованная, но отвращение к ней уже исподволь зреет во мне и скоро найдет выход. Сочти ее критики плохой, сегодня они меня, возможно, ранят, через полгода я буду близок к их мнению. Но с одной оговоркой — каким бы ничтожным и плоским ни находили они это произведение, я хочу, чтоб они ставили его выше всего созданного мною раньше; я согласен, чтоб мое творчество в целом было охаяно, но хронологическая иерархия должна быть соблюдена, она — единственный залог того, что завтра я создам нечто лучшее, послезавтра еще лучшее и кончу шедевром.