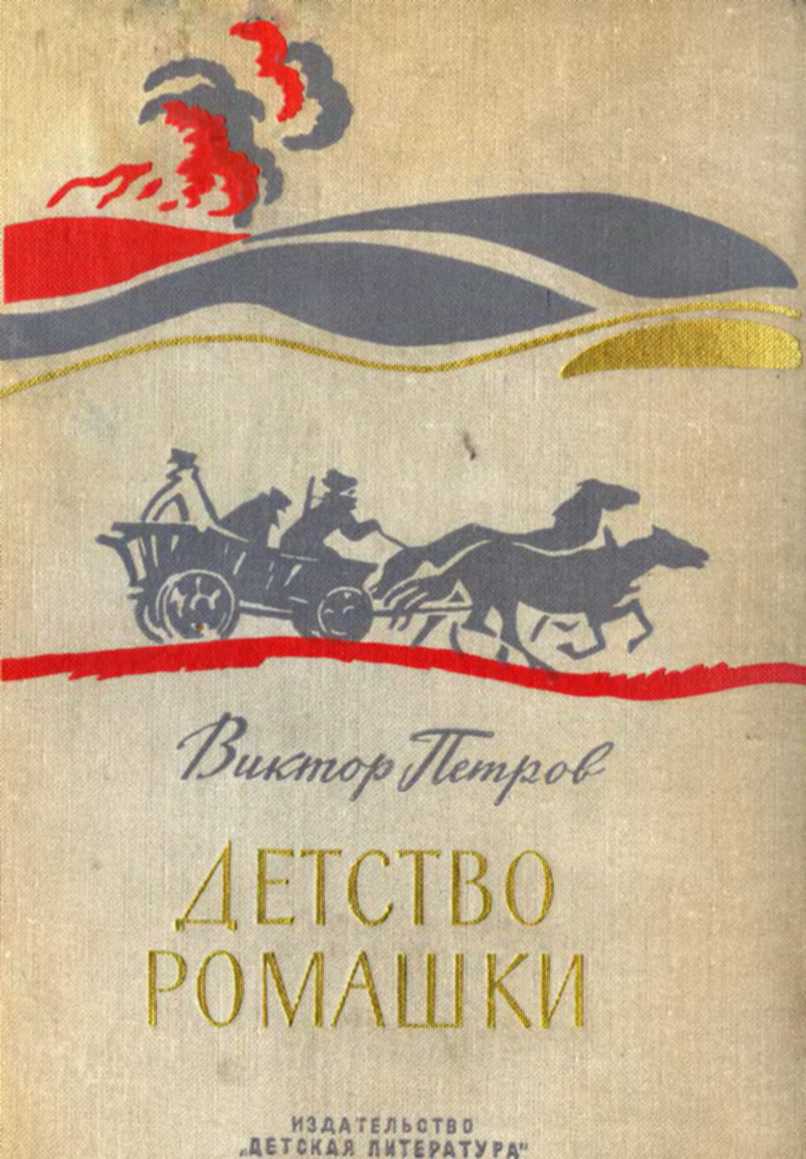Антоновские яблоки. Жизнь Арсеньева - Иван Алексеевич Бунин
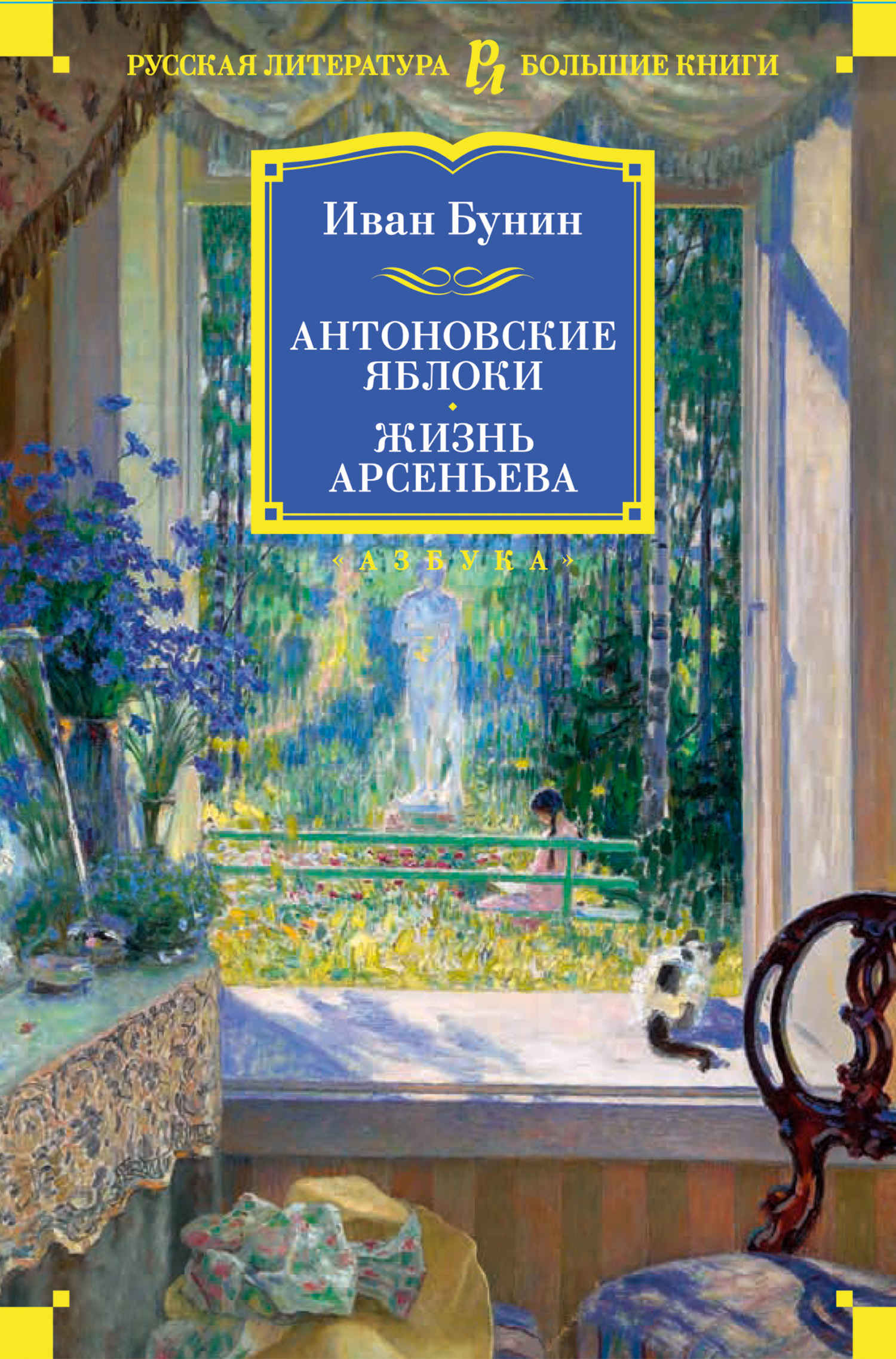
Помощь проекту
Антоновские яблоки. Жизнь Арсеньева читать книгу онлайн
Рассказчик печально резюмирует: «Я страстно желал делиться с ней наслаждением своей наблюдательности, изощрением в этой наблюдательности, хотел заразить ее своим беспощадным отношением к окружающему и с отчаянием видел, что выходит нечто совершенно противоположное моему желанию сделать ее соучастницей своих чувств и мыслей» (книга пятая, глава VIII).
Изображая этот процесс, Бунин действительно многое выдумывает, существенно корректирует свой творческий путь. В 1890–1910-е годы ему совсем не чужды социальные мотивы. Но начинающий Арсеньев, мучимый желанием «писать что-то совсем другое, совсем не то, что я мог писать и писал», демонстративно иронизирует по поводу общественных задач литературы: «Зажигались фонари, тепло освещались окна магазинов, чернели фигуры идущих по тротуарам, вечер синел, как синька, в городе становилось сладко, уютно… Я, как сыщик, преследовал то одного, то другого прохожего, глядя на его спину, на его калоши, стараясь что-то понять, поймать в нем, войти в него… Писать! Вот о крышах, о калошах, о спинах надо писать, а вовсе не затем, чтобы бороться с произволом и насилием, защищать угнетенных и обездоленных, давать яркие типы, рисовать широкие картины общественности, современности, ее настроений и течений!»
И чуть дальше совсем уж наглядно, прямолинейно, демонстративно: «„Социальные контрасты!“ – думал я едко, в пику кому-то, проходя в свете и блеске витрины… На Московской я заходил в извозчичью чайную, сидел в ее говоре, тесноте и парном тепле, смотрел на мясистые алые лица, на рыжие бороды, на ржавый шелушащийся поднос, на котором стояли передо мной два белых чайника с мокрыми веревочками, привязанными к их крышечкам и ручкам… Наблюдение народного быта? Ошибаетесь, – только вот этого подноса, этой мокрой веревочки!» (книга пятая, глава XI).
Из наблюдения этой мокрой веревочки рождается то, что литературоведы называют феноменологическим романом и сравнивают с эпопеей М. Пруста, которого Бунин, по его признанию, в начале работы над книгой еще не читал. «„Жизнь Арсеньева“ – это не воспоминание о жизни, а воссоздание своего восприятия жизни и переживание этого восприятия (то есть новое „восприятие восприятия“). Жизнь сама по себе как таковая вне ее апперцепции и переживания не существует, объект и субъект слиты неразрывно, в одном едином контексте… Прошлое заново переживается в момент писания, и потому в „романе“ Бунина мы находим не мертвое „повествовательное время“ традиционных романов, а живое время повествователя, схваченное и зафиксированное (и оживающее каждый раз снова перед читателем) – во всей его неотразимой непосредственности» (Ю. Мальцев).
Стоит добавить, однако, что это живое время воспринимается не в зыбкой неопределенности и эфемерности, а в бурном потоке, бесконечном ливне подробностей, которые размывают и без того простую фабулу. Если присмотреться, к этой мокрой веревочке – всего-навсего в одном предложении – привязаны еще около десятка подробностей. Без них веревочка не стала бы столь демонстративной.
Бунинская память в первую очередь зрительна, наглядна, предметна. Из этой материи памяти рождается все остальное.
«Мое новое возвращение под отчий кров было уже не похоже на то, что было три года тому назад. На все я смотрел теперь другими глазами. И все в Батурине оказалось еще хуже, чем я представлял себе в дороге: убогие избы деревни, дикарские лохматые собаки и дикарские обледенелые водовозки возле порогов, вросших в железную грязь, колчи этой грязи по проезду к усадьбе, пустой двор перед угрюмым домом с печальными окнами, с нелепо высокой и тяжкой крышей времен дедов и прадедов и двумя темными от навесов крыльцами, дерево которых сизо от древности, – все старое, какое-то заброшенное, бесцельное – и бесцельный холодный ветер гнет верхушку заветной ели, торчащей из-за крыши дома, из жалкого в своей зимней наготе сада…» (книга пятая, глава XXX). Кажется, начав описывать, перечислять, Бунин уже не может остановиться: в этот бесконечный период можно втянуть всю книгу.
Тем поразительнее оказывается ритмический слом следующей главы. «Весной того же года я узнал, что она приехала домой с воспалением легких и в неделю умерла. Узнал и то, что это была ее воля – чтобы скрывали от меня ее смерть возможно дольше».
Смерть героини и печальное возвращение под отчий кров – финальные точки «Жизни Арсеньева».
М. Алданов вспоминал: «Не раз убеждал его писать второй том, он всегда отказывался: „Я там писал о давно умерших людях, о навсегда конченных делах. В продолжении надо было бы писать в художественной форме о живых – разве я могу это сделать?“»
Однако книга все-таки была своеобразно продолжена: ее главные темы определили два последних бунинских писательских десятилетия. Многочисленные истории любви наполнили «Темные аллеи», а выяснение отношений с литераторами-современниками стало целью злых, пристрастных, совсем не художественных «Воспоминаний» (1950).
«ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ»: ГРАММАТИКА ЛЮБВИ
Тридцать восемь рассказов «Темных аллей» (отдельное издание – 1946) написаны, большей частью, в оккупированной фашистами Франции, посреди Второй мировой войны, о русской жизни, которая давно исчезла, оставшись только в памяти писателя. Сочиняя книгу о самом индивидуальном, интимном человеческом чувстве, Бунин словно противопоставляет его массовому безумию мировой бойни.
Заглавие подсказало Бунину стихотворение Н. П. Огарева «Обыкновенная повесть», которое, видимо, он запомнил с юности. Его прозрачная символика объяснена в письме писательнице Тэффи: «Вся эта книга называется по первому рассказу – „Темные аллеи“, – в котором „героиня“ напоминает своему возлюбленному, как когда-то он всё читал ей стихи про „темные аллеи“ („Кругом шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи“), и все рассказы этой книги только о любви, о ее „темных“ и чаще всего очень мрачных и жестоких аллеях» (23 февраля 1944 г.).
Еще в рассказах, написанных накануне революции, Бунин нашел несколько важных формул, определяющих его взгляд на эту тему.
В центре рассказа «Легкое дыхание» (1916) – трагедия юной девушки, гимназистки Оли Мещерской, веселой, легкой, ожидающей счастья, однако соблазненной старым ловеласом, другом своего отца, и провоцирующей после этого собственное убийство. «Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре».
Герой другого рассказа, некто Ивлев – «Грамматика любви» (1915) – находит в имении соседа-помещика, всю жизнь любившего свою внезапно умершую горничную, старинную книгу и внимательно читает написанные на последней странице стихи: «Тебе сердца любивших скажут: / „В преданьях сладостных живи!“ / И внукам, правнукам покажут / Сию Грамматику Любви».
В написанном уже в эмиграции рассказе «Солнечный удар» (1925) юный поручик встречает на пароходе незнакомку, проводит с ней всего одну ночь и, после того как женщина уезжает, понимает, что пережил, вероятно, главное событие своей жизни: «Да что же это такое со мной? И что в ней особенного, и что, собственно, случилось? В самом деле, точно какой-то солнечный удар!»
В рассказе «Муза» (17 октября 1938 г.), включенном в книгу, есть короткий диалог между героями: «– Воображаю, что вы обо мне думаете. А на самом деле вы моя первая любовь. – Любовь? – А как же иначе это называется?» В «Темных аллеях» идет поиск и этого слова, и этого языка: сочиняется грамматика солнечных ударов.
В заглавном рассказе «Темные аллеи» (20 октября 1938 г.) Бунин цитирует Н. П. Огарева. В «Холодной осени» (3 мая 1944 г.) появятся цитаты из стихотворения А. А. Фета (стихи Фета щедро использованы раньше, в «Жизни Арсеньева»). Композиция рассказа «В одной знакомой улице…» (25 мая 1944 г.) подчинена развитию лирического сюжета в стихотворении Я. П. Полонского «Пленница».
Имя Фета особенно важно для Бунина. Именно Фет делает хронотоп усадьбы центром мироздания. Та же картина мира, но в иной эмоциональной тональности, становится опорной для Бунина: старый дом, аллея темных лип, озеро или река, уходящая на станцию или в провинциальный городок размытая дорога, которая приведет то на постоялый двор, то на пароход, то в московский трактир, то на погибельный Кавказ, то в роскошный вагон идущего в Париж поезда.
Только в мире и есть что тенистый
Дремлющих кленов шатер.
Только в мире и есть что лучистый,
Детски задумчивый взор.
Только в мире