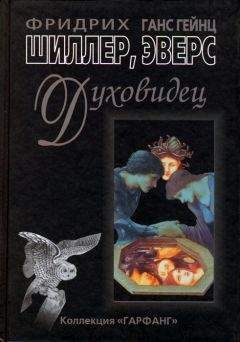Яков Голосовкер - Сожженный роман

Помощь проекту
Сожженный роман читать книгу онлайн
Его голос внезапно снизился:
— Что, идут?
Смертник сорвался с места и впился в дверь камеры глазами.
Он ошибся: никого.
Исус уже возвращался и снова сел рядом с опустившимся на койку смертником. Оба долго молчали. Зато примолкшие было колокола возобновили перезвон. Полночь миновала.
— Тебе пора, — сказал Исус. — Подул ветер ночной. Встань и иди.
— Что? — изумился, еще не понимая, смертник. — Как это: «иди»? Куда идти?
— Мы сменимся одеждой. Ты выйдешь отсюда, — сказал Исус. — Один ты пройдешь: тем же путем, что и я.
— Каким, тем же? А ты?
— Я… здесь.
— Вот как, — очень медленно прошептал смертник. — Здесь останешься? Так, так. А я выйду — выйду вместо тебя…
Исус уже распахнул одежду, похожую на белый больничный балахон и стал ее сбрасывать с одного плеча, высвобождая левую руку.
— Не смей! — как-то воплем выкрикнулось из смертника, вскочившего разом с койки и ухватившего Исуса за полы балахона. — Ты не смеешь так со мною!.. Хочешь опять повторить то, что тогда там: снова на крест и муку… за меня? снова — жертвенно? А я-то как после этого жить буду, приняв твою жертву? Ты об этом подумал? — В подлецах, в трусах жить, как те тогда, как твои фарисеи!
Он дрожал от негодования, от злобы, от стыда, от нестерпимого оскорбления, нанесенного ему этим неведомо откуда явившимся спасителем, ему, террористу, его совести революционера, готового своей кровью ответить за чистоту грядущей правды.
— Так вот ты какой человеколюбец, — бросал он уже с ненавистью в лицо Исусу, — своей любовью мне в лицо плюешь. Я тоже, как и ты: «за человека». Но что же скажу я человеку, если спасусь, подставив твою голову под пулю, под петлю? Скажу: «Лес рубят — щепки летят». Тебя-то причислю к щепке, а себя — к очистителю-топору? Да ведь человек мне за это в лицо плюнет. Ты что же думаешь: что ты чист, а я не чист? Я бы сам убил и тебя, и себя, если бы знал, что великая анархия свободы от этого восторжествует во всей своей высокой чистоте. Да разве я грабитель? Бандит трусливый? Негодяй? Разве я жажду власти и соглашусь кровь твою пролить, чтобы только… Я — анархист, я ненавижу власть. Она мне не нужна. Но ненавижу сейчас и тебя за то, что ты пришел искусить меня своим самопожертвованием ягненка. Уйди! Уйди! Ты любишь жалко, не умея ненавидеть. Я — всей ненавистью моей люблю — мир, человечество и может быть потом… и тебя.
Смертник на мгновение умолк.
— Да что же это! исповедуюсь перед тобой, что ли. — выкрикнул он в гневе:
— Уйди! Ты не нужен мне такой. Ненужный ты! Ненужный! Прочь! Прочь! Прочь!
Смертник упал лицом на койку и сжал локтями голову.
Еще долго стоял в безмолвии над смертником Исус, снова натянув на себя балахон. Перезвон колоколов не умолкал. В окошке за железом решетки мгла, фиолетовая от ночного света, стала как будто сереть. В камеру проникала бледность. И с этой бледностью слилось видение-в-белом. Его не стало.
Смертник, приподнявшись, присел на койку. Там, в конце коридора, где железная дверь без ручки вела к железной витой лестнице, послышались приглушенные шаги. Шаги стихли у двери. Что-то звякнуло: приклад или ключ в замке.
За окном рассветало.
Эпизод 2-й
За дарма («Кафе» на Тверской)
Дым сизыми спиралями поднимался от столиков к потолку, загадочно повисал вопросительными, даже очень вопросительными, знаками в воздухе, качаясь, носился туда и сюда клубами и ниспадал сверху завесами, рождая в этом подвале-притоне под низкими сводами мир призраков, некое подобие шабашу бесов и ведьм средневековья. Там собиралась с вечера лихая Москва деляг и шпаны, нужных и лишних: и та, что валом валит по улицам и прет из вагонов, и та, что пробирается в одиночку с оглядкой и разом шасть за угол, и та учрежденская, что только приступила и вскоре врастет и обретет личину и штамп-словарь, и бывшая-былая наполеоновская — из последышей, и нонешняя хамелеоновская, попугаечная, и та шопотная, черно-биржевая мозговая, и та, что басит с хрипцой и икает, и утробно гогочет —
Тут она вся,
Не разбой-голова,
А линяй-трава,—
— тут и люди стародавние, ныне брандохлысты-тотошники, потому что некуда податься, тут и на-все-наплевисты, передовики, и просто трын-трависты, и парни с балалаечкой: у кого в руке, у кого в голове, только бы бренькало.
А кругом за столиком такие дамочки, и просто девки, и Махно-маруси, и такая дуся под шалью, и такие у нее губки в помаде, что прямо на поцелуйную выставку. И рядом черная вуаль на-пол-лица: прежде Алочка, а теперь Алка, и тут же всякие интеллектуалочки, — и те, что только любознательны и никак не больше, ни-ни, и перерожденки, в особом смысле до конца обсоветизированные, в доску, потому что совесть выдумана, а стыд — отсталость: тут и те, что в первый раз, на риск, и тут же еще одна — такая, что все отдай и то мало, и другая: носик распухший, кокаин в ноздре шариком, синева под глазами колесами, лицо — матово-бледное, и — вдруг матом с опухших губок: княжна! А рядом такие бока!
— Ишь, сало, на два стула расселась. Бедра убери! — свирепел один в смокинге не по плечу. А другой, во френче, с ухмылкой — в ее защиту:
— Не тронь мамашу. Она дочку привела.
Когда кто-либо с улицы входил в это «Кафе» по Тверской. — почему-то «Кафе», а не кабак, — у него перед глазами все кругом ползло и расползалось в дыму, и выныряло на мгновение из дыма хохочущими головами, и тонуло обратно, и вновь выныряло — многотелое, многоголовое. Оно проглатывало запрокинутыми ртами рюмки, разрывало, зверея глазами, птичьи тела — ножки цыплячьи, сквозь соломинку тянуло, словно из души тайну, прохладительное — всякие гренадины, и ломая соломинку в зубах, орало, визжало, галантереяло, похабило, донага раздевало душу, и без того уже раздетую и, отъедаясь за всю спою волчью голодуху былых годов, пожирало мгновение, — все равно, кто: спекулянт, бандит, примазавшийся ловкач, агент или сотрудник чего-то государственного, или просто оголтелый малый, или мира шалый преобразователь.
И в это «Кафе», именно в это, вошел Исус.
Он мелькнул видением-в-белом в дыму большого зала, скользнул неприметно, призраком, среди прочих призраков эпохи или дня, и прошел за портьеру, где скромно укрывалась одностворчатая дверь в коридор с кабинетиками для особо Солидных или важных гостей. А за кабинетиками — номерочки в пристройке барачного типа с выходом во двор — для своих, завсегдатаев. Там в номерочках спальный диван у досчатой перегородки. На перегородке обои лоскутьями свисают и она щелится: приложишь глаз и все видно, что там разделывают. Зато есть задвижка на дверях и вдобавок крючки дверные.
Как раз перед тем, как Исус вступил в этот коридор с затемненными краской лампочками, в один из номерков вошли двое видных мужчин и с ними девчонка с улицы, беспризорница, лет одиннадцати или чуть-чуть побольше: глаза широко распахнуты, в волосах с рыжим пламенем своя республика: расчеши их — гребенку сломаешь, — носик вздернутый, веселый, с веснушками, ножки — еще веселее, рот дерзкий — сдачи даст без запинки и зубами, гляди, вцепится. Зато взгляд звериный, но опытный, с детства взрослый: будто он уже все знает, все понял. А вся она в целом — Муська. Поманили ее пальцем, и пристала добровольно к тем двум важным, к дядькам.
Исус вошел в приоткрытый темный чуланчик, когда-то для чайников при буфетной, а теперь для посудного лома, тут же кучей наваленного на полу. Свет в чуланчике не горел, но сквозь щель проникал из соседнего номерка, где сошлись те двое и Муська.
Муська засунула в рот узкую плитку шоколаду, что ей один из дядей дал, и, сидя вразвалку на низком мягком стуле, болтала ногами, будто равнодушная, а на самом деле вся исходя любопытством к роскошным мужчинам. А те двое, навалившись на диванные пружины и сблизив головы, шептались о чем-то очень деликатном.
Исус слышал о чем.
Из какого-то кабинетика и из других номерков доносились голоса и отдельные восклицания. Кто-то восторженно выкрикивал:
— Ах, ты, скалапендра! Ну, поцелуй, босячка.
И в ответ — кокетливый хохоток, почти буфетно-салонный:
— Ах, нет!
И потом, после паузы, так же кокетливо:
— Совсем задушили.
Из-за другой двери доносился разговор весьма приличный, общественный:
— Смотри, Степа, настоящая она киви-киви. Все, — дрыг-дрыг, дрыг-дрыг…
И женский голос:
— А вот вы и не знаете, что такое киви-киви.
— Как это не знаю! У нас мерин был, все головой кивал. Его и прозвал ветеринар, весьма образованный дохтор: киви-киви.
— А киви-киви — австралийская птица, а вовсе не мерин, — парировал женский голос.
— Вот и врешь, что птица. Уткунос — то птица австралийская, а киви-киви — мерин. И не спорь, а то осерчаю. Ученого учит, заноза. Сразу видать, что ты за птица. У тебя все «контра». Только и знаешь: дрыг-дрыг, дрыг-дрыг…