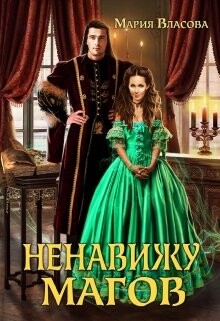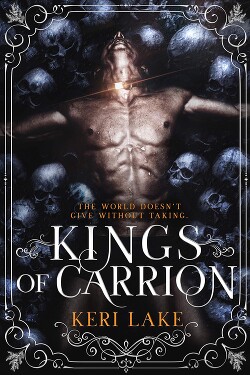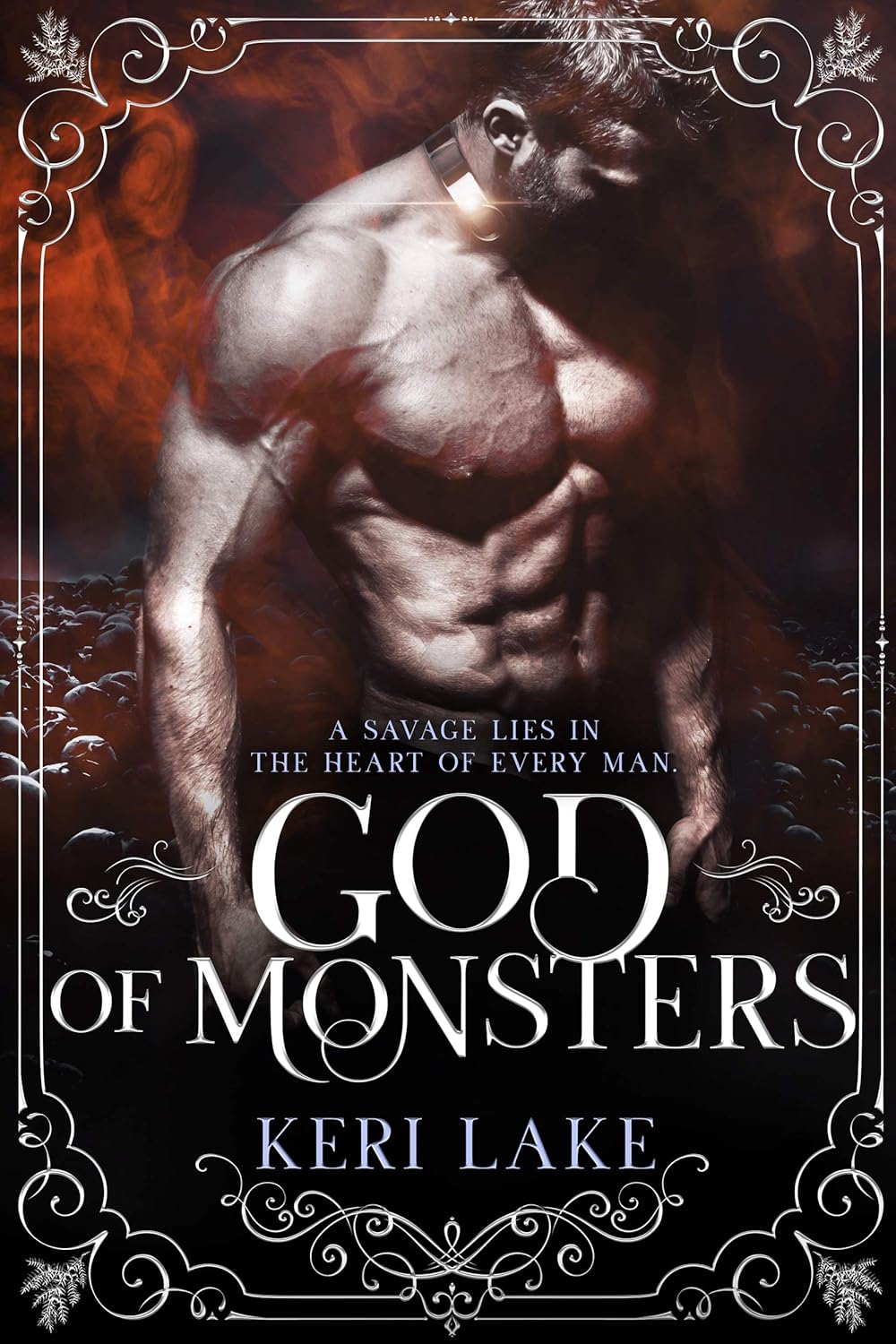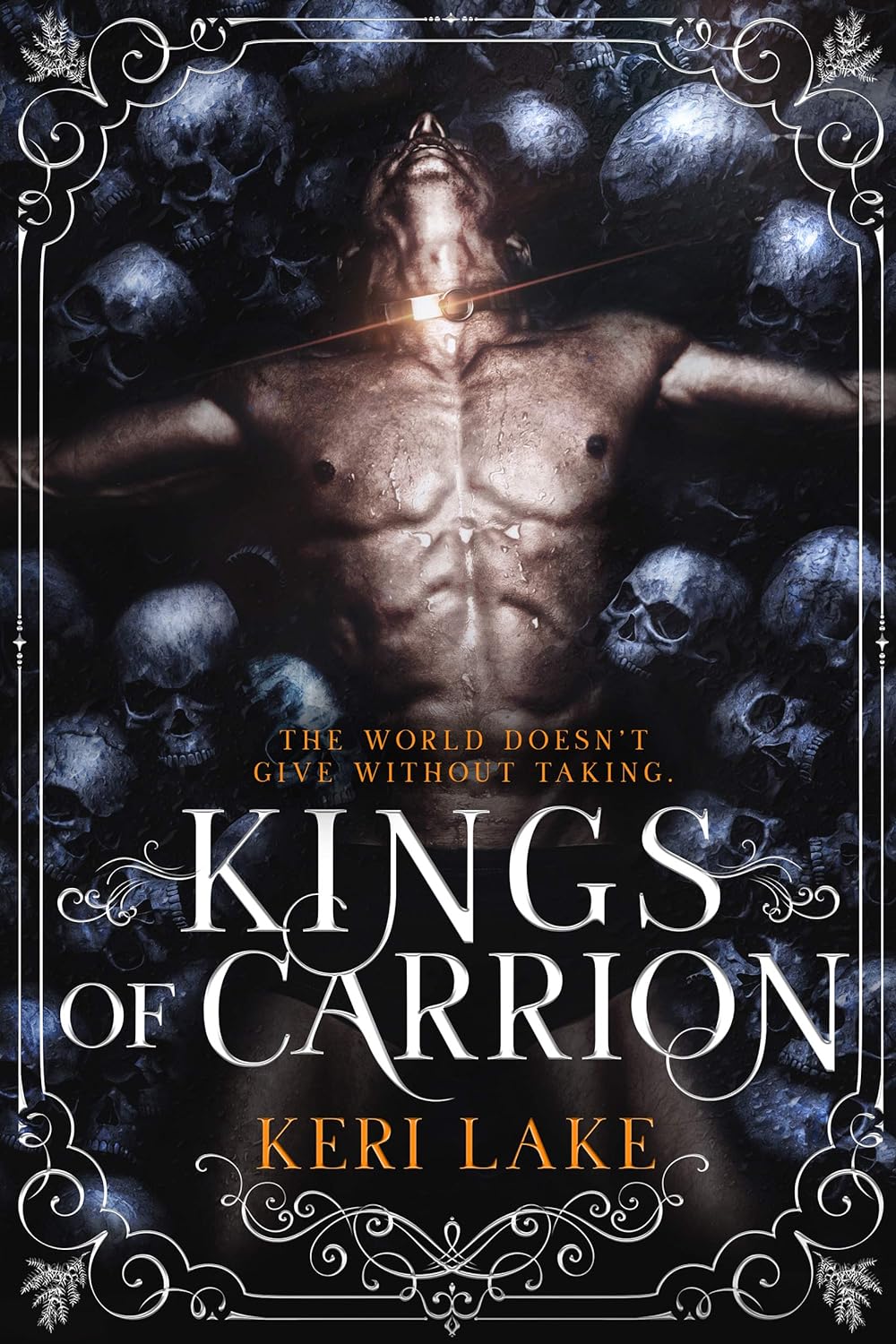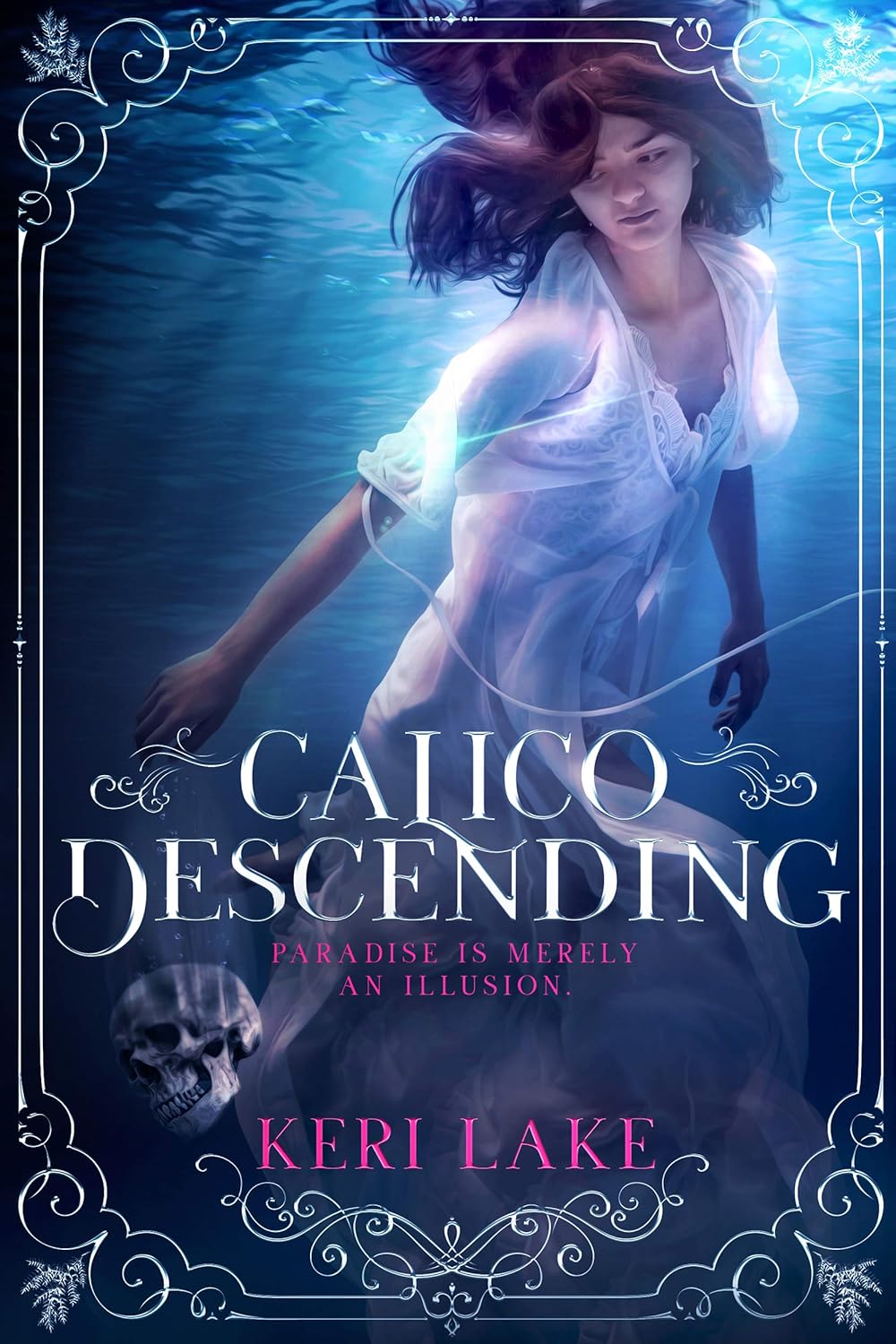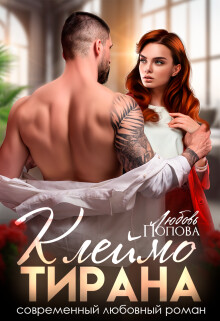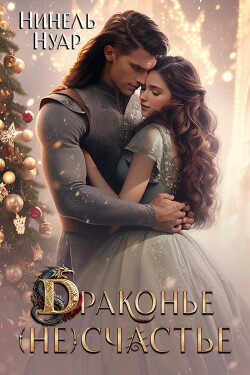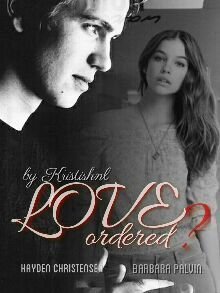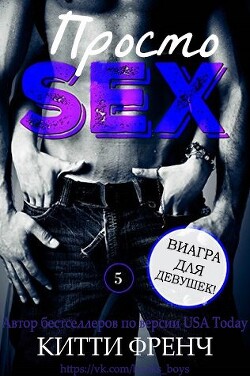Джек Керуак - Суета Дулуоза. Авантюрное образование 1935–1946
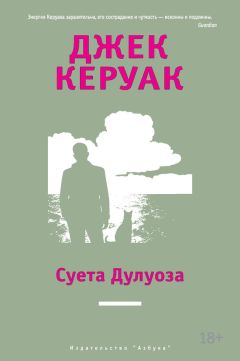
Помощь проекту
Суета Дулуоза. Авантюрное образование 1935–1946 читать книгу онлайн
VII
Поэтому примерно весь следующий год я провел, голодая по встречам с ним, желая, чтобы он давал мне книги, Шпенглера, даже Шекспира, Поупа, целый год наркотиков и разговоров с ним, встреч с персонажами дна, которых он принялся изучать, как некий acte gratuit.
Потому что под Рождество 1944-го Джонни вернулась ко мне из Детройта, мы пожили и кратко полюбили в «Долтон-Холле», затем переехали к ее старой подруге Джун уже на 117-ю улицу и после этого убедили Хаббарда въехать туда же, в пустую комнату, и он впоследствии женился на Джун (мы с Джонни знали, что они друг другу понравятся).
Но то был год низменного, злого декаданса. Не только наркотики, морфий, марихуана, кошмарный бензедрин, который мы, бывало, принимали в те дни, разламывая бензедриновые ингаляторы, и вынимая промоченную бумажку, и сворачивая ее в ядовитые шарики, от которых потеешь и мучаешься (сбросил тридцать фунтов за три дня, когда впервые попробовал передознуться), но каких людей мы узнали, настоящих воров с Таймз-сквер, что приходили и ныкали украденные из подземки автоматы по продаже жвачки, под конец прятали стволы, занимали у Уилли его собственный ствол или дубинку, а хуже всего – на громадной двойной кровати Джун с восточным покрывалом сверху у нас было навалом места, чтобы раскинуться иногда вшестером с кофейными чашками и пепельницами и обсуждать вырождение «буржуазии» днями напролет.
Из этих нескончаемых дебошей я возвращался домой в Озон-Парк с видом бледного кожа-да-кости себя прежнего, и мой отец говорил бывало: «О, этот Хаббард и этот Ирвин Гарден когда-нибудь сведут тебя в могилу». Плюс ко всему, у моего отца начался синдром Банти, каждые две-три недели у него распухал живот, и его надо было откачивать. Вскоре он уже больше не мог работать и собирался вернуться домой и умереть. Рак.
Из дома я в ужасе сбегал к «ним», а от «них» домой, но и то и другое в равной мере были темными и негостеприимными местами мук совести, греха, скорби, стенаний, отчаянья. Не столько тьма ночи меня беспокоила, сколько ужасные огни, изобретенные людьми, чтобы освещать ими свою тьму… Я имею в виду сам фонарь в конце улицы…
То был год, когда я совершенно бросил поддерживать свое тело в форме, и фотоснимок меня на пляже в то время показывает тело мягкое и рыхлое. Волосы у меня стали отступать с боков. Я бродил в галлюцинациях бензедриновой депрессии. 6-футовая рыжая накладывала мне на лицо слой грима, и мы так спускались в подземку: это она дала мне передозу: она была воровайка. Мы встречались с вороватыми и ужасными типами на определенных остановках подземки, некоторые там были «лебежатниками» (обирали подземочных пьяниц), мы отвисали в порочных барах на 8-й авеню за углом от 42-й улицы. Сам я не участвовал ни в каких преступлениях, но лично знал о великом множестве. Для Хаббарда это было пресыщенным изучением того, до чего ужасны могут быть люди, но в своей бессодержательности, насколько они также могут быть «бдительны» в «мертвом» обществе, для меня то было романтическим самоистязанием, вроде кровавых дел в моей писательской башне Само-Предельности предыдущей осенью. Для Ирвина, ныне работника верфей и по временам торгового моряка в каботаже до Техаса et al., – новым сортом материала для его нового поэтического прихода в духе Харта Крейна.
Один из наших «друзей», который однажды пришел заначить ствол, оказался, повесившись в Могилах несколько месяцев спустя, «Безумным убийцей с Таймз-сквер», хоть я про это и не знал: он заходил прямо в винную лавку и насмерть пристреливал владельца: в этом мне потом признался другой вор, который больше не мог держать это в тайне, как он сказал, потому что от такого хранения у него все болело.
VIII
Моему бедному отцу нужно было меня увидеть, пока он умирал от рака, к этому все свелось от того начала в песочнице футбольного поля «Дрейкэтских тигров», Лоуэлл, когда устремленье было добиться чего-то в футболе и школе, поступить в колледж и стать «преуспевающим». То на самом деле было частью войны – и грядущей холодной войны. Никогда не забуду, как нынешний муж Джун Хэрри Эванз вдруг протопал по прихожей ее квартиры в армейских ботинках, только что с германского фронта, где-то в сентябре 1945-го, и в какой ужас пришел, увидев нас, шестерых взрослых людей, все улетели по бенни, растянулись, и сидят, и бродят по-кошачьи по этой обширной двойноспаренной кровати «скептицизма» и «декадентства», обсуждают ничто ценностей, бледноликие, хилые тела, божже, бедняга сказал: «И вот за это я сражался?» Жена велела ему спуститься с его «высот натуры» или что-то вроде. Он с нею развелся немного погодя. Конечно, мы знали – то же самое происходило в Париже и Берлине того же месяца и года, мы же теперь читали Гюнтера Грасса, и Уве Йонсона, и Сартра, и даже, конечно, Одена и его «Век тревоги».
Но это не соответствовало нескончаемому представлению моего умиравшего отца о том, что люди «должны стараться изо всех сил, с надеждой глядеть в завтрашний день, работать, добиваться, прилагать усилия, шевелить мослами», все эти застарелые выражения 1930-х годов, что так взбалтывали, будто клюквенный соус, когда мы считали, что процветание буквально за углом, и оно точно там было.
Сам я, как видишь по всей этой безумной тираде прозы, называемой книгой, как ни верти, преодолел столько всякой дряни, что едва ли мне можно поставить в вину, что я примкнул к отчаянникам своего времени.
И все же парни возвращались домой с войны, и женились, и шли в школу по Солдатскому Биллю, те из них, у кого не было склонности к такому негативизму и кто дал бы мне по носу, знай они, как низко я пал с того времени, может, когда они пили со мной пиво в 1940-м. Но я провалял дурака всю войну, и это моя исповедь.
(В это время к тому же я позволил жене моей Джонни разбираться в Детройте со всеми бумагами о признании нашего брака недействительным, как муж я ей был больше ни к чему, я отправил ее домой.)
IX
В тот год я принимал столько бензедрина из тех надломанных трубок, что наконец довел себя до настоящей ручки и заболел тромбофлебитом, и к декабрю пришлось идти в Общую больницу Куинза (по Д. В.[64]) и ложиться туда, ноги на подушках, укутаны в горячие компрессы. Говорили даже поначалу об операции. И даже там я выглядывал в окно во тьму ночи Куинза и чувствовал, как тошно сглатываю, когда вижу, как те бедные уличные фонари тянутся в бормотливый город гирляндой скорбей.
Однако, словно кучка детишек, двенадцати и тринадцати лет, которые там были пациентами, на самом деле пришли к изножью моей кровати однажды вечером и пели мне серенады на гитарах.
А моя медсестра, большая толстая деваха, меня любила.
Они читали у меня по глазам, что было там в 1939-м, 38-м, нет – 22-м.
Фактически в той больнице я начал припоминать себя. Стал понимать, что городские интеллектуалы мира разведены с народною кровью земли и суть просто-напросто безродные дурни, хоть дурни и допустимые, которые, вообще-то, не знают, как жить дальше. Мне начало приходить собственное новое видение более подлинной тьмы, которая просто затмевала весь этот поверхностный ментальный мусор «экзистенциализма», и «хипстеризма», и «буржуазного декаданса», и как его ни назови.
В чистоте моей больничной кровати, неделями подряд, я, пялясь в тусклый потолок, пока храпели бедняки, видел, что жизнь – создание грубое, прекрасное и жестокое, что когда видишь весенний бутон, покрытый дождевой росой, как ты можешь поверить, что он красив, если знаешь, что влага на нем только для того, чтобы подтолкнуть бутон к цветенью лишь затем, чтобы он отпал от серии осенью намертво сухой? Все современные торчки-элэсдэшники (1967 года) видят жестокую красу грубого творенья, лишь закрывая глаза: я потом тоже ее видел: круг маниакальной Мандалы, весь мозаичный и плотный от миллионов жестокостей и красивостей, в нем происходящих, как вроде, скажем, прытко с одной стороны я заметил однажды ночью некоего хормейстера на «Небесах», что медленно выводил «Ооо», а рот его благоговеет от той красоты, что они пели, но тут же подле него жестокие служители на пирсе скармливали аллигатору поросенка, а люди шли мимо ноль внимания. Просто пример. Или та ужасная Мать Кали из древней Индии и ее бесконечности мудрости, все руки унизаны драгоценностями, ноги и живот тоже, безумно извивается, дабы пожрать насквозь ту свою единственную часть, что без драгоценностей, свою йони, сиречь инь, все, что она же и породила. Ха ха ха ха – смеется она, танцуя на мертвых, рожденных ею. Мать Природа рожает тебя и пожирает тебя же вновь.
И я видел, как войны и общественные катастрофы возникают из жестокой природы зверского творенья, а не из «общества», у коего в конечном счете намеренья добры, иначе оно б не называлось «обществом», правда?
Это, будем честны, мерзкое бессердечное творенье, исторгнутое Богом Гнева, Иеговой, Яхве, Безымянным, который погладит тебя милостиво по головке и скажет: «Ну вот, ты себя хорошо ведешь», – когда молишься, но если ты молишь о пощаде, скажем, будучи солдатом, подвешенным за ногу на дереве в современном Вьетнаме, когда Яхве на самом деле завел тебя в глубину сарая даже в обыкновенных мученьях смертельной болезни, как тогда у моего Па, он не станет слушать, он надерет тебе попочку длинной палкой того, что в догматических сектах Теологического Христианства зовут «Первородным Грехом», а я называю «Первородной Жертвой».