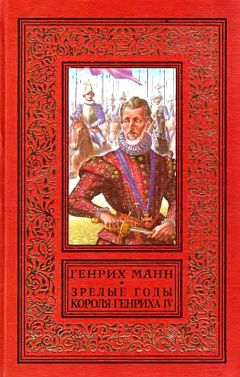Генрих Манн - Зрелые годы короля Генриха IV
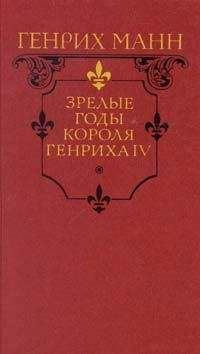
Помощь проекту
Зрелые годы короля Генриха IV читать книгу онлайн
Но теперь его не стало. Когда в ту пору его народ тщетно караулил его останки, среди прочих его законоведы, его ремесленники, мореплаватели, борцы за веру, борцы за свободу — немного нужно было, чтобы дюжий крестьянин вскочил на стол. Тот, например, что съел пол белого хлеба, а Генрих вторую половину, и кружку вина они распили вместе. Но теперь его не стало, мы осиротели, мы печалимся. В жизни народа всего привычнее печаль, за ней следом покорность — до восстаний далеко.
Прощание с телом покойного короля, захват дворца, который уже не принадлежит ему, благополучно минует. Двор вздохнет свободно, после того как угрюмая толпа удалится вместе со своей грозной скорбью.
В последний день дофин Людовик, ныне король Тринадцатый этого имени, учинил великую досаду, за что его мать намерена больно наказать его, когда будет восстановлен покой и порядок. Он, обычно такой робкий мальчик, самовольно и совсем один смешался с толпой, хотя от природы был склонен бояться и презирать людей, все равно — поодиночке или в массе. На пороге комнаты, где покоятся прах и оболочка его отца, он опустился на колени, на коленях совершил весь путь до него и поцеловал пол у его ложа. Пол же был грязен от множества ног; такое поведение явно противоречит склонностям нового короля. Одно лишь может объяснить его. Отец часто водил Людовика за руку: тут он делает это в последний раз.
Герцог де Сюлли во многих возбуждал трепет, хотя сам он после смерти своего государя сперва испугался за свою безопасность: он слишком хорошо служил королю. Первый порыв страха заставил его тайком покинуть арсенал, он не хотел быть выслеженным или узнанным. Когда же он всмотрелся на улицах в лица, во множество лиц и все с одинаковым выражением, он встал во главе своей конной гвардии. С ней он явился в Луврский дворец и напрямик пожелал видеть королеву, но получил правдоподобный ответ, что она нездорова и даже в беспамятстве. Этому он поверил, ибо из них двоих один лишь мог быть без страха и тревоги: либо он, либо она.
Впоследствии она ни разу открыто не преследовала его. Некоторое время он сохранял свою власть или внешнее подобие власти, чтобы великий король для виду продолжал жить в своем великом министре. Делалось это ради народа и его угрожающей печали — пока не будут постепенно обессилены, а затем отправлены по домам оба — слуга короля и несчастный народ. Мария Медичи, едва стало возможно, предалась роскоши, праздничному упоению своей глупостью и блеском своего бесплодного владычества. Рубенсу, который живописал все это, было неприятно, что подобная фигура поневоле служит средоточием излюбленного им разгула неземной чувственности.
Сердце короля Генриха прибыло наконец к тем, кому он обещал его. А до того оно немало постранствовало, его показывали провинциям. Оно объезжало их, лежа на коленях иезуитов. Глубоко сокрушенные народные толпы видели, как сердце его само приближалось к ним и вновь удалялось; незачем им идти в столицу, чтобы взять его. Все равно. Они никогда не забудут, что однажды у них был их король. Сердце его, помимо них, радело о многом — о собственном главенстве, о величии Франции и о всеобщем мире. Однако первыми были у него они, самыми близкими его сердцу, когда были бедны. В народной памяти единственный король.
Seul roi de qui le pauvre ait gardé la memoire.
Allocution d’Henri Quatrième
Roi de France et de Navarre
On m’a conjuré, on a voulu s’inspirer de ma vie, fame de pouvoir me la rendre. Je ne suis pas très sûr, moi-même, de desirer son retour, et encore moins, de bien comprendre pourquoi j’ai dû accomplir ma destinée. Au fond, notre passage sur la terre est marqué par des peines et des joies étrangères à notre raison, et parfois au-dessous de nous mêmes. Nous ferions mieux, si nous pouvions nous regarder. Quant aux autres, ils m’ont assurément jugé sans me voir. Certain jour, jeune encore, quelqu’un, s’approchant par derrière, me ferma les yeux de ses mains; a quoi je répondis que pour l’oser, il fallait être ou grand ou fort téméraire.
Regardez moi dans les yeux. Je suis un homme comme vous; la mort n’y fait rien, ni les siècles qui nous séparent. Vous vous croyez de grandes personnes, appartenant a une humanité de trois cents ans plus âgée que de mon vivant. Mais pour les morts, qu’ils soient morts depuis si longtemps ou seulement d’hier, la différence est minime. Sans compter que les vivants de ce soir sont les morts de demain. Va, mon petit frère d’un moment, tu me ressembles étrangement. N’as-tu pas essuyé les revers de la guerre, après en avoir connu la fortune? Et l’amour donc, ses luttes ahannantes suivies d’un bonheur impatient et d’un désespoir qui perdure. Je n’aurais pas fini poignardé si ma chère maîtresse avait vécu.
On dit cela, mais sait-on? J’ai fait un saut périlleux qui valait bien ces coups de poignard. Mon sort se décida au même instant que j’abjurai la Religion. Cependant, ce fut ma façon de servir la France. Par là, souvent nos reniements équivalent à des actes, et nos faiblesses peuvent nous tenir lieu de fermeté. La France m’est bien obligée, car j’ai bien travaillé pour elle. J’ai eu mes heures de grandeur. Mais qu’est-ce qu’être grand? Avoir la modestie de servir ses semblables tout en les dépassant. J’ai été prince du sang et peuple. Ventre saint gris, il faut être l’un et l’autre, sous peine de rester un mediocre amasseur d’inutiles deniers.
Je me risque bien loin, car enfin, mon Grand Dessein est de l’époque de ma déchéance. Mais la déchéance n’est peut-être qu’un achèvement suprême et douloureux. Un roi qu’on a appelé grand, et sans doute ne croyait-on pas si bien dire, finit par entrevoir la Paix éternelle et une Societé des Dominations Chrétiennes. Par quoi il franchit les limites de sa puissance, et même de sa vie. La grandeur? Mais elle n’est pas d’ici, il faut avoir vécu et avoir trépassé.
Un homme qui doit cesser de vivre, et qui le sent, met en chemin quand même une postérité lointaine, abandonnant son oeuvre posthume à la grâce de Dieu, qui est certaine, et au génie de siècles qui est hasardeux et qui est incomplet. Mon propre génie l’a bien été. Je n’ai rien à vous reprocher, mes chers contemporains de trois siècles en retard sur moi. J’ai connu l’un de ces siècles, et qui n’était plus le mien. Je lui étais supérieur, ce qui ne m’empêchait pas d’être même alors un rescapé des temps révolus. Le suis-je encore, revenu parmi vous? Vous me reconnaîtriez plutôt, et je me mettrais à votre tête: tout serait a recommencer. Peut-être, pour une fois, ne succomberais-je pas. Ai-je dit que je ne désirais pas revivre? Mais je ne suis pas mort. Je vis, moi, et ce n’est pas d’une manière surnaturelle. Vous me continuez.
Gardez tout votre courage, au milieu de l’affreuse mêlée où tant de formidables ennemis vous menacent. Il est toujours des oppresseurs du peuple, lesquels oncques n’aimai; à peine ont-ils changé de costume, mais point de figure. J’ai haï le roi d’Espagne, qui vous est connu sous d’autres noms. Il n’est pas près de renoncer à sa prétention de suborner l’Europe, et d’abord mon royaume de France. Or, cette France qui fut mienne, en garde le souvenir; elle est toujours le poste avancé des libertés humaines, qui sont liberté de conscience et liberté de manger à sa faim. Il n’y a que ce peuple qui, de par sa nature, sache aussi bien parler que combattre. C’est, en somme, le pays où il у a le plus de bonté. Le monde ne peut être sauvé que par l’amour. A une époque de faiblesse, on prend violence pour fermeté. Seuls les forts peuvent se permettre de vous aimer, puisque aussi bien, vous le leur rendez difficile.
J’ai beaucoup aimé. Je me suis battu et j’ai trouvé les mots qui saisissent. Le français est ma langue d’inclination: même aux étrangers je rappellerai que l’humanité n’est pas faite pour abdiquer ses rêves, qui ne sont que des realités mal connues. Le bonheur existe. Satisfaction et abondance sont a portée de bras. Et on ne saurait poignarder les peuples. N’ayez pas peur des couteaux qu’on dépêche contre vous. Je les ai vainement redoutés. Faites mieux que moi. J’ai trop attendu. Les revolutions ne viennent jamais a point nommé: c’est pourquoi il faut les poursuivre jusqu’au bout, et à force. J’ai hesité, tant par humaine faiblesse que parce que je vous voyais déjà d’en haut, humains, mes amis.
Je ne regrette que mes commencements, quand je bataillais dans l’ignorance de tout ce qui devait, par la suite, m’advenir: grandeur et majesté, puis trahison amère, et la racine de mon coeur morte avant moi, qui ne rejetera plus. Si je m’en croyais, je ne vous parlerais que de cliquetis d’armes, et de cloches faisant un merveilleux bruit, sonnant l’alarme de toutes parts, les voix criant incessamment: Charge! charge! et tue! tue! J’ai failli être tué trente fois à ce bordel. Dieu est ma garde.
Et voyez le vieil homme qui n’a eu aucune peine à vous apparaître, quelqu’un m’ayant appelé.
En guise de rideau, le nuage d’or se referme sur le roi.
Обращение Генриха Четвертого,
Короля Франции и Наварры,
Меня призвали, чтобы вдохновиться примером моей жизни, не будучи в силах вернуть мне эту жизнь. Я и сам не уверен, хочу ли я ее возврата, и еще меньше понимаю, почему мне пришлось принять такую судьбу. В сущности, земной наш путь отмечен горестями и радостями, неподвластными нашему разуму и нередко недостойными нас. Мы поступали бы лучше, если бы смотрели на себя со стороны. А вот другие, те, без сомнения, судили обо мне, не видя меня. Однажды, в годы юности, кто-то, подойдя сзади, прикрыл мне глаза руками; я тогда сказал, что отважиться на это мог только великий человек или большой смельчак.
Посмотрите мне в глаза. Я человек, подобный вам: смерть тут ни при чем и ни при чем века, разделяющие нас. Вы мните себя взрослыми людьми, потому что ваше поколение на триста лет старше моих современников. Но для мертвецов почти нет разницы — мертвы ли они так давно или умерли только вчера. Не говоря уже о том, что живые сегодня могут стать завтра мертвецами. Послушай, меньший мой брат на мгновение, ты удивительно похож на меня. Ведь и ты испытал превратности войны, сперва узнав ее удачи? А любовь, со всеми перипетиями борьбы, с торопливым счастьем и отчаянием без конца! Я не погиб бы от кинжала, если бы бесценная моя повелительница была жива.
Так мы говорим, но что мы знаем? Я совершил опасный прыжок, который стоил многих ударов кинжалом. Участь моя решилась в ту минуту, как я отрекся от истинной веры. Однако этим я послужил Франции. Ибо нередко наше отступничество равноценно подвигу, а наши слабости могут заменить стойкость. Франция многим обязана мне, потому что я много потрудился для нее. У меня были минуты величия. Но что значит быть великим? Это значит иметь скромность служить своим ближним, будучи выше их. Я был принцем крови и простолюдином. Надо быть тем и другим, чтобы не остаться ничтожным и ненужным крохобором.
Я что-то слишком занесся, ибо мой Великий план задуман все-таки в годы заката. Но, быть может, закат — это и есть высшее и мучительное завершение. Король, которого называли великим, не понимая даже, сколь это справедливо, под конец провидит вечный мир и союз христианских государств. Тем самым он выходит за пределы своего могущества и даже своей жизни. Величие? Да ведь оно не от мира сего, для него надо прожить жизнь и умереть.