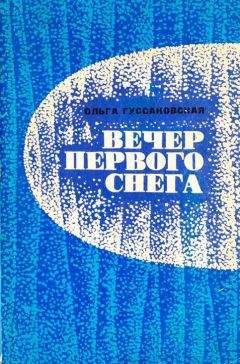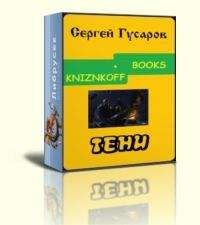Всеволод Липатов - Ночной директор. I том. История, рассказанная в тиши музея
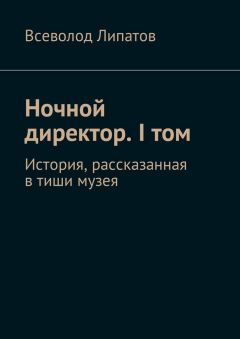
Помощь проекту
Ночной директор. I том. История, рассказанная в тиши музея читать книгу онлайн
Скорее всего, воевода просто искал виновных в том, что сбор ясака стал падать и, оправдывая свою бездеятельность и неумение управлять, просил царя издать указ об изгнании этих поселенцев.
Была ещё одна проблема, которая появилась в Сибири во время освоения – это оспа. Сохранились отписки воевод, что инородцы вымирали целыми семьями. У коренного населения не было иммунитета против этой новой болезни, поэтому они гораздо хуже переносили болезнь, чем русские. Это тоже подливало масла в огонь многочисленных противоречий и проблем, возникших в Мангазейском крае.
Но всё же огромную роль в создании клубка проблем сыграло самодурство некоторых мангазейских воевод. Они назначались на два года, и за это время должны были сколотить капитал, так как потом несколько лет эти люди не имели права занимать государственные должности. Считалось, что этих денег, полученных на воеводской должности должно хватить не безбедную жизнь. Вот иные и рвали сколько можно и где могли. Ведь государство им никакого жалования не платило. Потому и стремились они наложить свою лапу на все мыслимые и немыслимые источники дохода, которые только были в Сибири, и до каких можно было дотянутся.
Если здесь учесть полную оторванность от центра, полнейшую безнаказанность, амбиции, то эти факторы просто не могли не привести к злоупотреблениям царских воевод. Играла свою негативную роль и давняя русская традиция кормления, говоря иными словами, занимая какую-то должность, человек сам обязан был зарабатывать себе на жизнь, так как государство зарплаты ему не платило. Коренных мер против этой практики правительство не предпринимало и наказание зарвавшихся воевод было редким исключением из правил. Обычно дело ограничивалось только проведением сыска и денежной пеней в пользу пострадавшего.
Сохранилась жалоба на князя Ухтомского. Отчаявшиеся люди писали в Москву, что:
«Шили они двадцать шуб из соболей, для провоза в Русь. А последняя шуба ценою с полторы тысячи рублев была для князя Петра Ухтомского. А князь посылает на службу в лучшие зимовья своих людей для своей безраздельной корысти, и они привозили ему добрые соболя. А которые люди, государь, радели ясак для тебя, и тех он на службу туда не отпускал».119
Результатом этого скорбного послания царю стало то, что самих жалобщиков князь посадил в тюрьму.
Поэтому, хоть какого-нибудь контроля, царские власти назначали на места по два воеводы. Происшествие с Ухтомским весьма показательно, как безраздельная власть может сказаться на службе, дело в том, что посланный с ним дьяк Пётр Теряев по дороге из Москвы в Мангазею умер.120
Иногда эта практика двоевластия приводила к серьёзным последствиям.
С 1629 по 1630 год121 в Мангазее служило два воеводы: Григорий Иванович Кокорев и Андрей Фёдорович Палицын. Старшим воеводой был назначен Кокорев, за эти два года он оставил неизгладимый след в истории всего Мангазейского уезда. Эти начальники, на которых было возложено государственное дело, поссорились между собой. Судя по всему их неприязнь началась ещё в дороге, если не раньше, в Москве. Видимо одной из причин стали амбиции, чей род древнее и лучше. Но как бы там ни было, уже в дороге они плыли на разных кочах. А в закрытом пространстве городка, где все на виду, развлечений практически никаких, вражда разгорелась со страшной силой. Дело дошло до того, что Палицын не выдержал и, опасаясь «смертного убойства» от Кокорева, вынужден был из укреплённой части городка переехать на посад, Там люди построили ему новый двор. Кстати, это ещё больше сблизило младшего воеводу с мангазейским обществом, и в течение всего 1630 года он возбуждал людей против Кокорева, общаясь уже непосредственно с народом. Кстати, во время всей осады Палицын всё время действует только с согласия «мира», то есть местного общества.
В это время в мангазейском мире проявилась любопытная черта – всесословность. Например, 27 декабря 1630 года воевода Палицын рассказывал про «воровство» своего товарища по воеводству Григория Кокорева в Успенской трапезе священнику Василию, дьякону, дьячку и пономарю, а также служивым и торговым людям. Несмотря на всю немалую власть, Григорий Иванович всё же опасался горожан, и поэтому стал принимать экстренные меры. В первую очередь он привел к крёстному целованию гарнизон и несколько оставшихся верными ему торговых и промышленных людей. Поставил город на военное положение, запер ворота, расставил караулы и сел в осаду «от мужичья воровства». Палицын даже утверждал, что Кокорев израсходовал семьсот рублей, чтобы создать себе партию единомышленников среди мирских людей в Турухане.
В итоге город разделился на два вооружённых лагеря. После вооруженной стычки, посадские люди осадили воеводский двор. Война велась с применением орудий. За время этих боевых действий, центральная часть города в районе гостиного двора превратилась в груду развалин. Сам гостиный двор и десятки амбаров, служивших пристанищем для приезжих торговых и промышленных людей, тоже были разрушены, сильно пострадало много жилых домов.
Среди всеобщего хаоса у обоих воевод наконец-то появилась здравая мысль – воспользоваться мирской организацией для временного управления Мангазейским уездом. Впрочем, сам Григорий Кокорев, ещё в самом начале раздора предлагал:
«А выбрали б с обоих сторон для государевых великих дел кого пригоже и велели б делать тем выборным людем всякие государевы дела… и посылки в ясачные волости для государева ясачного сбору и денежной и соболиной десятинной сбор и их промыслы не стали».
Он отлично понимал, что в Москве смогут понять все их раздоры, но за убыли в государеву казну не простят, и за несобранный ясак по голове не погладят, скорее наоборот.
Бахрушин отмечает, что с того момента, как торговые и промышленные люди «миром стали за государьское пресветлое имя» и укрепились «одиношною записью», в дальнейшем стали выступать «миром».122
Даже «мирскую челобитную» на Григория Кокорева, которую отправили в Москву в июле 1630 года с Ерофеем Хабаровым-Святитским, писали «всем миром».
Главной особенностью «мангазейского мира» было то, что он объединял не территорию, не волость и не уезд с постоянным населением, а тех торговых и промышленных людей, которые в данный момент находились в Мангазее. Сохранилась их челобитная от 1636 года, в которой они так охарактеризовали свою общину:
«И мы, … по приказу твоих, государевых, воевод, выбирали их своей братии заказчиков и сборных целовальников и между собой сбирали поживотное и поголовное и соболей сороковое, тысячи и по три и больши, а тех, государь, соборных денег расходилось в Мангазейском городе и на Турухани по тысячи и с прибылью на твой государев обиход: на лодки казакам, и аманатам, и сторожем наем, для, государь, твоего ясачного сбору с тунгусов и гуляшей, а достальные, государь, денги расходились по воевоцким дворам на их воевоцкую всякую издержку».123
Надо особо отметить, что эта община была создана искусственно, по приказу государевых воевод. Таким образом, воеводы и здесь нашли свои выгоды, перекладывая расходы на содержание административного аппарата, не покрывающиеся из статей обычного государственного бюджета, затраты на сбор ясака и многое другое, на плечи мангазейской общины. Поэтому ими, сначала преследовались исключительно фискальные интересы.
Со временем было выработано три формы «мирского обложения»: 1) «поголовное», то есть поголовная подать с приезжих людей; 2) «посороковое» – каждый сороковой соболь, добытый на промыслах; 3) «порублевое» – взимался определённый процент стоимости привезённых русских товаров. Эти сборы устанавливались по взаимному соглашению мирских людей, но с санкции администрации – «по приказу» воевод.124
Несмотря на то, что количество денежных поступлений напрямую зависело от времени года «неровно, смотря по приезду торговых и промышленных людей», суммы собирались большие, более двух – трёх тысяч рублей в год. Но практически весь доход уходил на три статьи расходов: 1) различные «государевы мангазейские расходы»; 2) расходы «на воевод»; 3) «земские издержки», именно эта ничтожная сумма тратилась на самообеспечение мирской общины.
В дальнейшем эти народные деньги сыграли для всей Мангазеи весьма негативную роль.
В Москве об этих местных сборах узнали совершенно случайно. В Сибирском приказе даже предположить не могли, что большие суммы денег утекают мимо казны. Присланные в Москву документы открыли факты злоупотребления воевод. Оказалось, например, что в 1629 году более четырнадцати процентов, а на следующий год уже более одной трети, собранных мангазейской общиной денег, ушло на нужды воевод. Поэтому в январе 1635 года последовал государев указ: