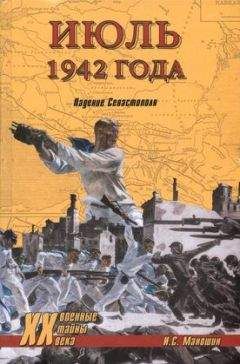Михаил Кураев - Капитан Дикштейн
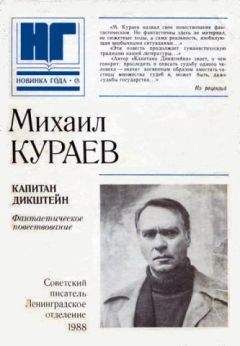
Помощь проекту
Капитан Дикштейн читать книгу онлайн
Третий потел над протоколом и от вопросов воздерживался, так как любой вопрос увеличивал количество писанины.
Беседе предшествовали разные формальности, в том числе и фотографирование, в процессе которого Игорь Иванович Дикштейн приобрёл новое лицо. В тощей папочке под названием «Дело №…» судьба Игоря Ивановича была отражена в романной версии писаря девятой роты, в самом лаконичном изложении.
Но самым фантастическим в описываемых событиях было то, что, отделившись от своего подлинного носителя, имя и фамилия не перешли революционным псевдонимом к новому владельцу, а, напротив, как бы оторвали его от себя. В соединении нового лица с новым именем возникли черты и характер нового человека, мало похожего и на кочегара из третьей котельной, и на старшину боезапаса второй башни главного калибра.
Подобные истории бытуют с библейских времен. Савл, поименовавший себя Павлом, как известно, стал разительно другим человеком, в сущности, как и все схимники, пустынники, послушники и монахи, оставлявшие вместе с прежним своим именем и прежнюю свою жизнь.
Для чубатого изначально лишь мысль о самосохранении дала толчок к раздумьям о соответствии новому своему наименованию, потом он все больше и больше думал о прежнем хозяине своего имени и фамилии, а поскольку единственного человека, с которым он без опасений мог говорить об Игоре Ивановиче, писаря девятой роты уже не было в живых, ему приходилось довольствоваться собственными фантазиями. Товарищи по бараку вдруг заметили, что Игорь Иванович, столь охотно раньше распевавший злые частушки и жалостливые песни, пользовавшиеся особым успехом у военморов, вдруг стал менять репертуар. Он всё реже и реже стал брать в руки мандолину, и всё чаще видели его берущим уроки на гитаре у мичмана Вербицкого. Он стал строже к себе и, что самое поразительное, не раз уже делал замечания именно кондукторам и мичманам, позволяющим себе опуститься в предчувствии обречённости.
Он с лёгкостью отказывался от привычек, казалось бы, въевшихся в него с прочностью татуировки. Например, опрокинув стопку, он умел так затейливо, трех-четырехступенчато, с кряком выдохнуть, что товарищи легко представляли себе, как мечется, обжигая нутро, бодрящий пламень в поисках единственного предназначенного для него места. Манеру эту чубатый взял у старшины четвёртой кочегарки, на которого даже ходили смотреть, когда он «принимал». Уже на поминках «крёстного» Игорь Иванович почувствовал, что веселить эту публику нечего, а после и вовсе решил, что человеку из приличных не резон вот этак себя выставлять. Зато теперь он мог строго оборвать дневального: «Чаишко-то у тебя, Баркалов, псиной пахнет…» — «Надо было кофу заказать», — меланхолично ронял Баркалов, другие отмалчивались или беззлобно огрызались, но никто не решался послать подальше, чувствуя в Игоре Ивановиче постоянно готовую вырваться наружу взрывчатую силу.
Когда Игорю Ивановичу приходилось слышать свою фамилию, вернее, фамилию Дикштейна, он отзывался почти мгновенно, словно боялся, что кто-нибудь отзовется на неё раньше его.
Нельзя сказать, чтобы компанейский нрав чубатого сильно изменился. Как и всякий человек, владеющий мандолиной, гитарой, гармонью или балалайкой, он привлекал к себе людей, да и вообще мало в народе малахольных, кто музицирует в одиночку, для себя. И вместе с тем общение его стало не таким открытым, не таким шумным и задиристым, как раньше. В суждениях стал резок, даже категоричен, а оглядывался настороженно.
В первый месяц по прибытии на место он имел изрядный досуг и, взвинчивая свое воображение, производил себя в старшины башенного боезапаса и даже пытался сочинить себе манеры строптивого отпрыска биржевого предпринимателя с острова Эзель. Представления о стиле и манерах такого рода людей были у него настолько неопределенны, что порой он чувствовал себя человеком, которому неожиданно сообщили о его высокородном происхождении, и в меру своего воображения он начинал соответствовать своему высокому назначению.
Впрочем, сначала Игорь Иванович был убеждён, что взятую на себя роль он долго не протянет, что это вроде как игра, вроде как отсрочка… Он отчетливо помнил свою природную фамилию, имя и отчество и знал, что прозвучат они для него как приговор. Он не только ждал провала, но и готов был к нему, понимая, что игра эта не может быть слишком долгой…
Но, приглядываясь к мичманской и кондукторской публике, разделившей общую участь, он пришел к неожиданному для себя выводу, с которым, уверен, могли бы поспорить психологи и социологи, если бы к тому времени оказались рядом. Наблюдая, как по пути к месту назначения растерялись признаки, по которым различались люди на кораблях и в крепости, как утратили смысл звания и должности, ещё недавно определявшие вес и силу каждого, Игорь Иванович решил, что разными людей, делает свобода и одинаковыми — гнёт, будь это гнёт страха, голода, холода или насилия.
Однажды тёплым лучом надежды коснулась сердца Игоря Ивановича весть о том, что разом, шумно и показательно полетели головы тех, кто возглавлял штурм Кронштадта, кто вёл полки и дивизии, расставлял орудия и зажигал сердца полуразутых и полураздетых бойцов. Читая в газетах о конце Путны, Дыбенко, Тухачевского, Рухимовича, Бубнова, Кузьмина, да и не только их, Игорь Иванович вдруг снова начинал чувствовать себя «красой и гордостью…», раздувал грудь и готов был сказать всё, что думал и слышал о них раньше. Только слово «Кронштадт» почему-то нигде не проскальзывало, и мудрая Анастасия Петровна, уже ставшая привыкать к новому Игорю Ивановичу, просто и доходчиво сдерживала порывистого кочегара: «Мало тебя таскали, ещё хочешь?» Игорь Иванович вспоминал всякий раз почему-то именно голову, мягкую и голую, как облупленное крутое яйцо, и стихал.
И чем непримиримей и беспощадней шла борьба с контрреволюцией, год за годом обретавшей личины то анархо-синдикализма, то правого оппортунизма, то левого, то троцкизма, то рабочей оппозиции, то обнаруживавшейся процессом промпартии или шахтинским делом и ещё несчетным множеством вредительских личин и обличий, тем в сознании отчетливей складывалось понимание того, что единственный способ уцелеть самому, выжить, спасти своих близких, семью — это быть неотличимо похожим на Игоря Ивановича Дикштейна, к которому у советской власти, как известно, претензий не было.
Ах, Игорь Иванович! Если бы он мог заподозрите, сколько муки и тяжести берёт он в свою жизнь вместе с новым именем и отчеством, вместе с новой, звучной фамилией, может быть, он не принял бы и саму жизнь с этим вечно давящим сердце довеском.
Сам того не предполагая, он обрёл на всю жизнь непрерывное дело — играть роль человека, которого, в сущности, даже не знал. Воображение рисовало его по-разному, но неизменным оставалось только одно — тот неведомый ему Игорь Иванович, может быть, благодаря воспоминаниям о его очках в тонкой оправе всегда был умнее, строже, благороднее и честней чубатого кочегара из третьей котельной.
Испытывая искреннее чувство вины перед доверившимся читателем, следует признаться, что история не сохранила всех, надо полагать, интереснейших подробностей длительного и многотрудного пути создания заново живого образа Игоря Ивановича Дикштейна. Довольно и так перегружать многострадальную историю вымыслами и фантазиями.
Обречённый искать все силы духа в себе самом, чубатый творил спасительный для себя образ в одиночку; ну что ж, ничто так не возвышает душу, как способность к одиночеству.
…Известно, что уже года через два-три все почувствовали, что отвращение ко лжи стало высокой страстью Игоря Ивановича, именно этот порок он начал считать самым гнусным и непростительным. Видимо, чувствуя, как туго приходится правде в этой жизни, и не забывая о своей вине перед нею, он наделил Игоря Ивановича неколебимой верностью новой присяге и неуклонно следовал ей, только дело ему приходилось иметь с правдой маленькой, и сердце, готовое служить чести, работало, можно сказать, на холостом ходу.
Замечание Игоря Ивановича насчет «хорош морозец» не осталось незамеченным и послужило началом новой волне беседы в очереди.
— Трусы не забыла? — поинтересовался ничем не примечательный дядечка, оглядывавший всё время снег, дома и дорогу с таким видом, будто ожидал увидеть что-нибудь смешное; спрошено было с таким простодушием, что заподозрить человека в двусмысленности было бы бестактно.
— Оде-ела,— равнодушно протянула женщина у крыльца, давая понять, что против мороза все ухищрения человеческие — мера лишь относительная.
— А то, гляди, опять дверка к духовке примёрзнет! — И победно повёл взглядом.
В очереди деликатно заулыбались.
— Ишь, всё знает! — похвалила женщина с тремя бутылками.
— Нет такого человека, чтобы всё знал, — с достоинством подлинной скромности сказал дядечка.