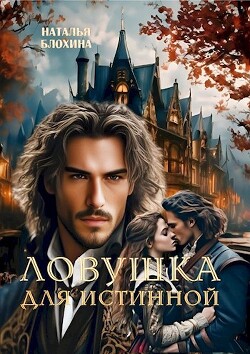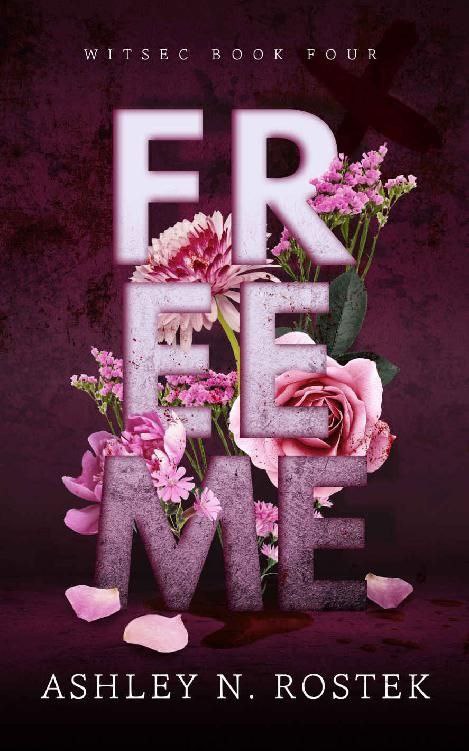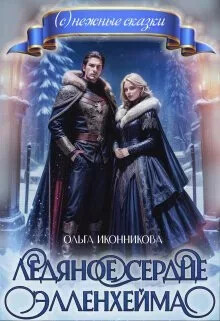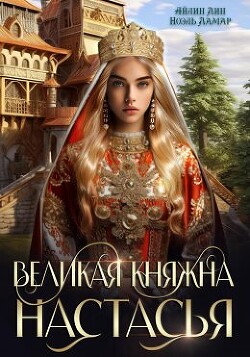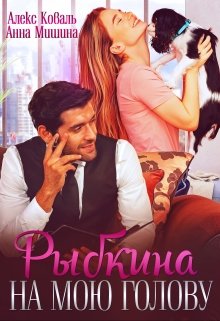Валентин Маслюков - Чет-нечет

Помощь проекту
Чет-нечет читать книгу онлайн
Ахмет не помнил своего пропавшего братца, ни один человек из ныне живущих на земле не удерживал в памяти соскользнувшее в бездну личико… Но Ахмет поднял глаза…
– О, Аллах! – простонал он, защищаясь ладонью, как от света.
Нужно было повернуться и уходить. Федька так и сделала. Туда, где двумя бессловесными сусликами темнели на пригорке Мезеня с Афонькой, она не пошла, а побрела в голое поле.
ГЛАВА ВТОРАЯ. В КОТОРОЙ СООБЩАЮТСЯ СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОДРОБНОСТИ ФЕДЬКИНОГО РОЖДЕНИЯ
И вот Федька сидит на не остывшей от дневного зноя земле и смотрит в темноту. За спиной ее у костра слышатся умиротворенные, благостные, как после причастия, голоса. Там у костра любовно разговаривают друг с другом. В братское это товарищество приняты и Афонька с Мезеней.
И вот сидит в ночной степи без прошлого, без будущего в случайном месте ненужный человек – Федор – Федька – Федора. Зачем она здесь?
Можно было только съежиться, замереть, чтобы неосторожным движением, самой его попыткой, не обрушить на себя перекосившийся мир, который бог знает каким искусством и усилием удавалось Федьке удерживать до сих пор от крушения.
С того времени, как, возвратившись с кладбища, где оставили они отца, Федька обнаружила необходимость существовать и дальше, она оказалась в одиночестве, все более безысходном и тягостном. В одиночестве, которое походило на затаенный страх. Потому Федька, наверное, так и цеплялась за прошлое, пытаясь укрыться тенью отца, что не видела для себя будущего. Отец заслонял собой все то противоречивое, неразрешимое, с чем Федька осталась теперь один на один. И Федькин, Федорин, брат Федор отлично понимал, что, лишившись отца, то есть лишившись нравственной защиты, высокоумная сестренка его оказалась у разбитого корыта. Поначалу, первое время Федор позволял сестренке, поплакав, брать на себя дом, приход и расход, снисходительно выслушивал уговоры и поучения. Однако, зная кругом свою вину, он начинал избегать сестру так же, как прежде отца. Ничто теперь не препятствовало похождениям Федора по кабакам и игорным притонам. Брат твердо верил, что, как бы там ни было, сколько бы ни плакала, ни злилась, ни выходила из себя сестра, тайная ее страстишка возьмет верх: кое-как покончив с нехитрым сиротским хозяйством, она сядет за работу. Сядет переписывать исковерканные, недоделанные братом выпуски «Вестей-Курантов» или списки с грамот шведского посла. Примется выводить их летучим, полным соразмерности, ясным и затейливым одновременно почерком, так что старые отцовские товарищи, создатели и хранители посольской школы чистописания, только диву давались. Они подносили бумагу к подслеповатым глазам, чтобы проследить внятные лишь знатокам тонкости росчерков, оценить намеренную прочность толстых размашистых линий, которые удерживали в порядке и строгости словесную вязь. Старые подьячие Посольского приказа, повидавшие мир, людей и почерка, сами исписавшие к закату жизни не мерянные версты узких столбцов, глядели, поднимали брови и, в конце концов, вынуждены были пожимать плечами, передавая друг другу бумагу.
– Ну вот, будто кто рукою его водил.
– Рука, небось, та же. Рука что! Прилежание. Розог бы отцу не жалеть, розог бы не жалеть – по-нашему так-то будет! – со вздохом говорил лысый сосед по столу, возвращая свиток после беглого взгляда, которого ему хватило, чтобы распознать мастерскую природу произведения.
А Федька владела искусством редким, если вообще возможным, – она освоила три мало схожих почерка: отцовский, братнин и свой. Первый после смерти отца пришлось оставить, третий, свой, она отрабатывала ради чистого художества. Чтобы совсем не утратить лицо, растворившись в почерке брата, не во всем продуманном, лишенном настоящей свободы, ибо не раз вынуждена она была останавливать полет пера, применяясь к уровню и возможностям брата.
В том-то и заключалось несчастье, что не осталось у Федьки, в сущности, ничего своего, хотя и родилась она, как рассказывал отец, прежде брата, в материнской утробе еще оттеснив своего тезку Федора. Туго распяв жемчужной головкой страдающее материнское лоно, она вынырнула в этот мир с такой страстной, нетерпеливой живостью, с такой радостной верой в торжество первого вздоха и первого крика, что сверкающие соленые брызги, что ударили при этом до середины бани, заплевали лицо и отцу, и повивальной бабке.
И, может быть, заплеванный до смеха отец не очень хорошо соображал, что делает, когда решился обрезать пупок дочери на книге, а не на веретене, как это пристало девочке испокон веков. С того-то все и пошло на перекос. Единственным оправданием отцу служило, может статься, лишь то, много объясняющее обстоятельство, что и Федора, и несколько запоздавший брат ее Федор родились в новолуние. В тревожный час перехода, когда одна луна ушла, а другая не появилась, когда женское естество меняется на мужское, а мужское на женское, четное на нечетное, а нечетное на четное, и нет ничего определенного, и холодно застывшие на осиротелом небе звезды не в силах развеять безоглядно объявший землю мрак.
По этим-то звездным туманом поставленная на задах двора баня огласилась двойными детскими криками. Двойнята кричали и требовали своей доли, каждый хотел доли. Но доля-то, как известно, падает на рождение только одна и, значит, двойнята должны были занять у кого-то недостающую… Мать отдала им свою. Она умерла. Отец всегда думал и однажды признался Федьке, с которой был особенно близок последние годы жизни, что эту, чужую долю, долю матери, получил запоздавший Федор. Но, верно же, и с Федькиной долей, Федоры, вышло нечто не совсем и не до конца ясное.
Многое в Федькиной голове перепуталось. И многое Федька знала, теперь уж не понимая откуда. Тут нужно было иметь в виду, по видимости, те стародавние, докнижные времена, когда, затаясь на печи, она слушала доверительные разговоры отца с бывалыми, повидавшими свет людьми, среди которых случались и московские немцы из разных стран.
И вот же насчет факиров (в далекой Индийской земле, куда английские немцы ищут путь через Волгу и Персию), насчет факиров, которые завораживают взглядом людей до обморока… насчет факиров и колдовства. Однажды после затянувшегося за полночь разговора отец сказал ей: «Только ты вот что, дочка… лишнего-то из дома не выноси». – «Чего лишнего?» – не поняла она, вся еще во власти сладостных игр ума. – «Ну, этого вот всего на улице не болтай», – уклонился он от прямого ответа. – «Почему?» – «Сожгут как ведьму». Это многое ей вдруг объяснило внезапным светом… Про себя-то ведь Федька точно знала – уж это-то может человек про себя, в конце концов, точно знать! – что он-то, человек этот, – не ведьма!
Легкое прикосновение заставило Федьку вздрогнуть и оглянуться. На плечи мягко припала ферязь. Вслед за тем таким же осторожным движением Лихошерст водрузил ей на темя потерянную шапку и опустился на корточки, поставив перед Федькой котелок.
– Хлопцы велели передать, – объяснил он, не глядя. – Ешь.
В котелке оставалось немного каши и тщательно вылизанная предшественниками деревянная ложка. Оставалось лишь удивляться силе товарищеского чувства, которое побудило восьмерых голодных мужиков придержать руку, зачерпнувши из котелка по два, много, по три раза. Казаки, впрочем, достали и собственные припасы – долгой ездой расплющенные между седлом и потником в лист, обильно и не раз смоченные соленой лошадиной пеной куски мяса.
– Спасибо, – обронила Федька равнодушно.
Лихошерст кивнул, словно подтверждая сказанное Федькой, но не ушел. В темноте различались черная борода и – несколькими крупными чертами – суровое красивое лицо его, хмурая бровь.
У костра слышался голос Афоньки, который, по обыкновению всех перебивая, толковал казакам, что здесь только что, час назад, происходило, рассказывал, как он, Афонька, всполошился, когда подьячий, вишь ты, заупрямился. Любопытно было узнать, что Мухосран находился в самой гуще событий и даже как бы принимал в них деятельное участие, но еще удивительней было простодушное внимание, с каким казаки слушали эти байки, переспрашивали и качали головами, переживая недавние события.
– А я тогда что? – нетерпеливо, с жадным любопытством встревал Пята.
– А ты тогда, значит, повернулся вот так. Глазами-то как глянул, повел, значит, плечом…
И, должно быть, Афонька показывал тут в лицах молодецкую стать Пяты. Казаки собственными глазами, лучше Афоньки, бог знает где в это время обретавшегося, видели, что происходило, они сами, своей волей вершили дело. Но такова была сила слова, что эти же самые казаки с замиранием сердца ждали теперь, повернет ли Пяту на добро или на зло. И Пята слушал, оцепенело хватив себя за вихор, с трепетом ожидал, что же сейчас последует, куда его, Пяту, повернет? И выходило, что Пята орел, мало что не былинный богатырь, не знающий удержу своему вольному нраву. И что Лихошерст, ребята, скажу вам, себе на уме. И что татарский Ваня тоже ведь парень не промах. И казаки – свойские все до слез хлопцы!