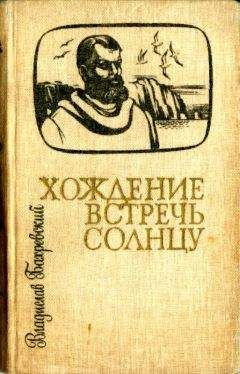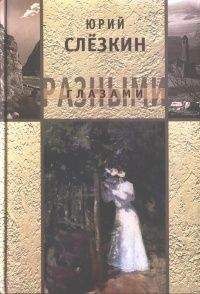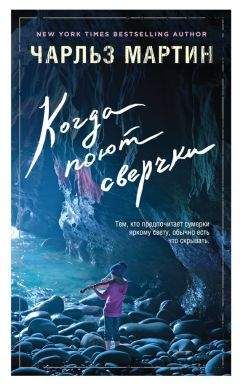Юрий Щербаков - Ушкуйники Дмитрия Донского. Спецназ Древней Руси
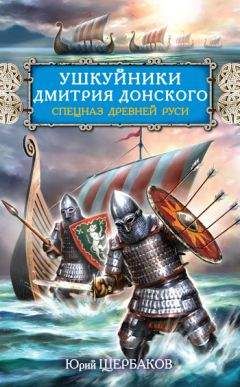
Помощь проекту
Ушкуйники Дмитрия Донского. Спецназ Древней Руси читать книгу онлайн
– Твоими? – прищурился Мамай.
– Да, моими, – мрачно согласился Вельяминов. – Не испугаюсь, не отступлюсь. Или я, или Дмитрий!
– Лучше ты, боярин! – захохотал удоволенно беклербек. – Но помни: за Великий Стол Ульдемир будет платить прежнюю дань, как при несравненном царе царей Джанибеке. – И, углядев нетерпеливое движение Некомата, домолвил: – А друзьям нашим, фряжским купцам, чтоб путь на Русь и с Руси чист был: ни тамги, ни мыта, ни иной пошлины! Тебе, московскому тысяцкому, блюсти исполнение моей воли!
– Ежели стану в отцово место…
– Станешь! – Крылья носа Мамая хищно раздулись. – Обманет урусутский поп – до Царьграда не доедет!
…Поезд самоставленного митрополита Михаила-Митяя Дикое Поле встретило, как встречало любой обоз русичей, решившихся достичь Орды посуху. Стрекот неутомимых кузнечиков утонул в протяжном вое нукеров, охватывающих широкою облавною дугою московское посольство. Сколь раз уже видела это древняя задонская степь: ряды неуловимой ордынской ковдицы, готовой облить стрелами и растерзать беззащитный караван и вспятивших русичей, покорно ожидающих, какая доля их ждет: стрела в боку, колодка на шее или чист путь в Дешт-и-Кипчак.
На этот раз томиться пришлось недолго: татарский мурза скользом оглядел охранные грамоты, явленные владычным боярином Иваном Коробьиным, и разрешающе махнул рукою. Вельяминов, хмуро следя за происходящим, терзался сомнением: не разумнее ли всего мигнуть сейчас надменному юзбаши, чтоб сабли его батыров оборвали земные дни лукавого попа? И что тогда? Прославят в храмах божьих новомученика за веру, а в Царьград за властью святительскою устремятся иные соискатели. Неистовый Дионисий, к примеру. И тогда грянет Орда на Русь! Ну, станет он тысяцким. Где? На дымящихся чураках? Коим градом управлять, коими полками воеводствовать, коли соделает Мамай русскую землю погостом для русичей и пастбищем для татар?
Боярин желчно усмехнулся. Не смердов ему было жаль – своей несбывшейся власти над ними! Счет простой: чем больше московских голов слетит под басурманскими саблями, тем меньше их будет кланяться ему, потомственному тысяцкому!
«А ну как Дмитрий передолит? – обожгла вдруг колючая мысль. – Так не бывать же тому! Пото и едет он нынче на тайный зов бывшего недруга. Едет, хоть и не верит улыбчивому красавцу Митяю, которому в самый бы раз посадских жонок ликом прилепым смущать, а не державными делами ведать!»
Однако мысли этой суждена была короткая жизнь – вровень с дорогою боярина до митрополичьего возка. Ибо Митяй, благословив Вельяминова, вел себя далее отнюдь не как пастырь-увещеватель, но как искушенный государственный муж.
– Надлежит тебе, сыне, не теряя часу, поспешать в Серпухов, – чеканил слова Митяй, – ко Владимиру Андреевичу. Обладите все как надо – быть ему Великим Князем к исходу лета! Яз в дела ваши не вступаю, ибо грешны дела вышней власти. Церкви же утишать надобе братни которы и нелюбие…
Священник нарочито тяжело вздохнул:
– Чаю, есть у тебя, сыне, люди для черного дела?
Вельяминов усмехнулся криво – воистину, от божбы до татьбы один шаг.
– Одного верного ты сам, отче, на Лачозеро упек.
– А почто ты священника на душегубство подвигнул? – попенял ему в ответ Митяй и усмехнулся в свой черед: – Да еще такого непроворого! Яз того Григория спас, в ссылку отправил.
Вельяминов, одобрительно качнув головою – ай да святитель! – промолвил раздумчиво:
– Люди есть, токмо…
– Токмо за животы свои опасаются! – деловито продолжил Митяй и возвысил голос: – Спасеньем души своей клянуся, что все, творимое днесь, – во имя Руси и языка русского! Гряди в родимые палестины без опасу, боярин. Нет худого умысла в деяниях князя Владимира и моих глаголах. Крест животворящий на том целую!
И никто, ни единая живая душа не ведала, что, едва распрощавшись с мятежным боярином, рухнул самоставленный митрополит на колена, моля о прощении единственного свидетеля и судью:
– Веси ли ты, Господи, яко лжу прикрыл именем твоим? Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй меня, грешного! Каюсь: кривду глаголал во имя правды, небылыми словами притушал свет истины! В одном токмо не грешен: весь мой днешний обман истинно за-ради Руси и языка русского!
…Что есть ложь во спасение? За какими бы словесными украсами ни прятали суть этой фразы, прежде всего это ложь. И ведет она не к спасению, а к воздаянию. Здесь ли, за гробом ли, но каждый полною мерою расплачивается за содеянное. И не счастливей ли тот, кому промыслом божьим воздается сполна еще при тварной жизни…
За многие и многие прегрешения свои головою ответил Иван Вельяминов. Имали его просто – без заполошных криков и последней безнадежно-отчаянной резни. Будто бы и пришел в Серпухов опальный боярин для того лишь, чтобы покорно датися князю Владимиру. В тереме боярина Клунка, куда отай привел Вельяминова с малою дружиною Поновляев, мнимый низвергатель Дмитрия Ивановича с обманутыми союзниками своими не чинился. Не поздоровавшись путем с вошедшими, возгласил:
– Иван Вельяминов! Ты поиман мною, яко изменник великому князю и перевет ордынский!
И, упреждая возможные хулы и покоры предателя, домолвил:
– Един лишь Господь мне в том судия!
А Вельяминов и не думал анафемствовать. Смертная усталь навалилась на боярина, словно в конце невыносимо тяжкого пути, когда все едино, что он сулит – спасение или гибель. И Мише ничего не сказал Вельяминов, не возопил, не проклял, лишь посмотрел в глаза с укоризною: что ж, ты, мол, кмете, душу сгубил?
Не намного пережил Вельяминова, казненного на Москве на самом излете лета, Митяй, так и не ставший митрополитом Михаилом. Не сподобил его Господь даже узреть дряхлеющий град Константина. Провидение вложило его воздаяние в ловкие руки некоего фрязина, сумевшего влить смертельную отраву в кувшин с питьем…
Двух недель не прошло с прилюдной казни на Кучковом поле, как захворал и в одночасье сгорел сын великого князя младень Семен. И то было лишь малой толикой суровой платы за ложь во спасение. В грядущий век, к детям и внукам Дмитрия московского протянется кровавый след вельяминовской казни. Но то уже дела иных времен и иных летописаний.
Вернемся в год 6887 от сотворения мира, где живут, любя, сражаясь и страдая, герои нашей повести…
Глава 11
В конце ноября, на Ивана Милостивого, великий князь подъезжал к Троице. Был тот редкий безветренный предзимний день, когда крупные хлопья отвесно опускаются на чернеющую после михайловской оттепели землю, торопясь укрыть ее погоднее перед грядущими морозами. В такое время, словно снежною пеленою, укутывает душу беспричинная грусть. А уж если ложится она на прежние тревоги и сомнения, то превращается в одночасье в неизбывную тоску-кручину. Тревожная пасмурь царила в душе великого князя. Три дня тому получена была им из Царьграда скорбная весть о кончине Митяя. Гонец – клирошанин, бывший при самоставленном митрополите до последней минуты, повестил, что захворавший внезапно Митяй на смертном одре порывался высказать нечто важное: «Передайте князю, передайте князю…» Да с тем и преставился. Что силился передать ему в горячечном бреду любимый советник? Предостеречь ли хотел от чего, или просто последнее «прости» не успели вымолвить посиневшие губы? Бог ему теперь судья.
Князь вздохнул, перекрестился. И, будто дожидаясь того, ударило за близким уже частоколом обители звонкое било, призывая монахов к обедне. Дмитрий Иванович, хоть и жаждал немедленного врачующего слова великого старца, отстоял всю службу, истово кладя поклоны и шепча слова молитв. Но не было в душе желанного благостного покоя.
«Веси ли, господи, яко угнетен дух мой? Не гордыней ли моею погублены предстоящие ныне пред твоим престолом Иван Вельяминов, Михаил-Митяй да чадо мое единокровное? Дай им, боже, жизнь вечную, а меня, грешного, вразуми и просветли!»
Наедине с Сергием князь оказался после скудной монашеской трапезы из грибной похлебки с ломтем хлеба. Едва прикрыв за собою дверное полотно в келью великого старца, Дмитрий рухнул на колени, будто надломилось что-то не только в душе его, но и в могучем теле. Сбивчивой скороговоркою, точно набедокуривший отрок, заговорил он о страхе перед безмерной тяжестью княжеской судьбы, о горестях ее и бедах.
И не в стыд то было великому князю, ибо и ощущал он себя жалким и растерянным мальчишкою, как в давние отроческие годы перед лицом духовного наставника своего митрополита Алексия. Тем же теплом мудрого сострадания веяло от Сергия, и, даже еще не сказав ничего, лишь выслушав сбивчивую исповедь высокого гостя, старец сумел успокоить и ободрить Дмитрия Ивановича. Усадив князя на лавку, он еще какое-то время молчал. По костистому лицу его в полумраке кельи ходили тени.
– Сыне! Сомненье – не грех, покуда не превратилось в отчаянье. Более того, сомненье – благодать, даденная нам всевышним, как и разумение неизбежности нашей смерти в тварном мире. В том участь человека: ведая бренность плоти, пройти наперекор сомнениям Богом назначенный путь!