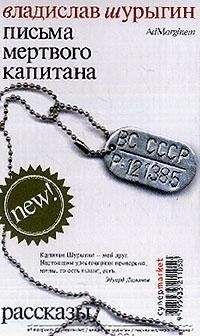Владислав Шурыгин - Зенитная цитадель. «Не тронь меня!»
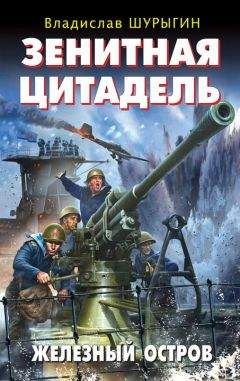
Помощь проекту
Зенитная цитадель. «Не тронь меня!» читать книгу онлайн
Теперь я часто бываю в Ленинграде, но Григория Александровича уже нет в живых…
Лейтенант Семен Хигер… Его, постоянно находившегося на левом крыле мостика, матросы плавбатареи окрестили «вечным вахтенным».
Хигер славился острым умом, умением математически точно молниеносно вычислить данные для стрельбы своих 76-миллиметровых пушек. По его командам не раз с нескольких выстрелов сбивали «юнкерсы» и «хейнкели».
В бою 19 июня 1942 года Хигер был ранен и вскоре эвакуирован на Большую землю на подводной лодке.
После выздоровления Хигер был назначен на Каспийскую военную флотилию. Командовал флагманским кораблем — канонерской лодкой «Ленин», дивизионом кораблей. В 1957 году, по болезни, вынужден был в звании капитана 2-го ранга уйти в отставку. Преодолел тяжелый недуг и почти двадцать лет работал в Каспийском пароходстве.
И хотя живет Семен Абрамович далеко от Севастополя, он, конечно же, мечтал побывать в городе-герое, где прошла его боевая молодость.
…В Севастополь приехали всей семьей. Ходили в Музей обороны, ездили на Северную сторону, выходили на катере в море, а буквально в последние дни отпуска решили посетить Панораму. У круглого белого здания Панорамы была большая очередь. Достать билеты оказалось непросто: многие люди со всех концов страны желали посмотреть всемирно известное, спасенное черноморцами и возрожденное из огня и пепла полотно Рубо…
Хигер разговорился с милиционером, дежурившим возле Панорамы. В разговоре случайно упомянул, что участвовал в обороне Севастополя, служил на плавбатарее…
— На «Не тронь меня»? — спросил милиционер.
— Да, так ее называли… — удивленно ответил Хигер.
— Подождите, пожалуйста, минутку, — сказал милиционер.
Вскоре он вернулся с входными билетами. Услышав слова благодарности, вежливо взял под козырек:
— Это вас надо благодарить, севастопольцев!
— Поверите ли, — вспоминал С. А. Хигер, — слезы на глаза навернулись, когда меня причислили к севастопольцам. Я еще раз остро почувствовал, что молодость, трудная молодость, прожита не зря!
Участие в обороне Севастополя, десять месяцев непрерывных боев на плавбатарее, дало мне самое главное — крепкое сознание великой общности советских людей, неотъемлемости от товарищей моих — матросов, с кем было пройдено самое тяжелое — война. Да, я могу с гордостью сказать: «Мы защищали Севастополь!»
Непростой была судьба Василия Платонова — комсорга плавбатареи, подносчика снарядов к 37-мм автоматам. Тогда, 19 июня, при поражении плавбатареи немецкой авиабомбой, Платонов уцелел и после расформирования находился в штольнях при штабе ОВРа. Еще на плавбатарее Василий научился хорошо печатить на пишущей машинке и потому приштабе он оказался человеком не лишним. Так было до 30 июня… Тогда уже стало понятно, что участь Севастополя решена, что на организованную эвакуацию расчитывать не приходится… Флагманский начхим майор Бондаренко, в распоржении которого работал Платонов, откровенно сказал об этом. И смысл его совета состоял в том, устраиваться на плавсредства для переправы на Большую землю придется самим… «И то вряд ли удасться…»
И вот трое моряков-овровцев: Василий Платонов, Дмитрий Байдуш и Григорий Белоконев оказались на берегу Стрелецкой бухты. Вспоминает Василий Платонов:
«..Ночью на берегу было очень много народу. Наверное, вся наша армия пришла эвакуироваться, а плавсредств не было. Мы увидели, что в отдалении от берега находится в дрейфе небольшая шхуна. В любое время и она могла уйти или подойти и взять кого ей будет строго приказано, но, конечно, не нас…
— Ну что, братцы, рискнем? — спросил Григорий. — Если, конечно, с плаванием у всех порядок…
Мы не были отягощены оружием и одеты были в обычную матросскую робу. Сбросили ботинки и зашли в воду. Плыли, как нам показалось, долго. Кто-то даже сказал: «Надо поднажать, братцы… А то перед носом уйдут и тогда попробуй доплыви назад…» А еще была мысль — вдруг не возьмут.
— Ребята, спасите!
Спасли. Взяли на борт шхуны. Так мы спаслись.
А потом было продолжение войны. Сразу после возвращения из Турции Василий Платонов служил на тральщике «Щит». Высаживал десант в Южную Озерейку, под Новороссийском, на Мысхако — Малую Землю. Был награжден орденами: Красного Знамени и Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». «За оборону Севастополя» и «За оборону Кавказа». Прослужил на флоте 8 лет. Вернулся в родной Ярославль. Окончил техникум, работал на том же самом заводе, с которого когда-то уходил на флот.
Доктор плавбатареи Борис Казимирович Язвинский. Кто, как не он, мог рассказать о последних минутах жизни командира легендарной плавбатареи, и кроме того, я очень надеялся, что Борис Казимирович даст «ниточку поиска» к последнему причалу, к месту захоронения капитан-лейтенанта Мошенского…
Кто-то из плавбатарейцев припомнил, что уже после войны, в сорок пятом или сорок шестом году, в одном из портов встречал лейтенанта Язвинского, был у него в гостях на тральщике.
На тральщике? Моряк мог ошибиться в годах — «в сорок пятом или в сорок шестом», но ошибиться в типе корабля вряд ли. Что ж, это была уже «ниточка». В Центральном военно-морском архиве я нашел запись о том, что майор медицинской службы Язвинский Б. К. в 1959 году уволен в запас по болезни и получил проездной литер до города Владивостока. Я запросил Владивосток и вскоре получил адрес Бориса Казимировича. Написал ему, стал ждать ответа. Владивосток! Расстояние не близкое…
Наконец получаю объемистый конверт. Четкий, каллиграфический почерк. Ответ на мои вопросы, рассказ о себе и — даже не ожидал — две пожелтевшие от времени фотокарточки.
Сначала о фотокарточках. В моем архиве к этому времени имелись фотографии комсостава плавбатареи: Мошенского, Середы, Хигера. Фото лейтенанта Лопатко, служившего на «Квадрате» с августа по октябрь сорок первого, а затем убывшего вместе с расчетами 130-миллиметровых орудий на сухопутные позиции… Не было только фото лейтенантов Даньшина и Язвинского, хотя в ближайшие дни я ожидал фотокопии, которые мне обещали переснять с их личных дел.
Итак, передо мной лежали две фронтовые фотокарточки. На одной — Борис Казимирович Язвинский сразу же после того, как он прибыл на Большую землю из Севастополя. На другой — лейтенант Николай Михайлович Даньшин… Сидит вполоборота, скрестив на груди руки и облокотясь на стол. Из-под густых бровей спокойно глядит прямо в объектив. В плотно сжатых губах, в углу рта, неизменная курительная трубка. Вот он какой, лейтенант Даньшин… Как долго его судьба оставалась неизвестной, и в личном деле лейтенанта Даньшина долгие годы стояла запись: «Пропал без вести 3.7.42 г.» (дата падения Севастополя). Теперь эта запись исправлена: «Погиб 30.06.42 г. в Севастополе при артобстреле».
Нет, не Язвинский помог уточнить обстоятельства гибели Даньшина. В своем письме Борис Казимирович писал: «Какова судьба Николая, мне не известно. Мы расстались с ним 27 июня на берегу, в штабе ОВРа…»
Лейтенант-Даньшин погиб позднее… Теперь мы знаем, как и где. В этом нам помогла коллективная память ветеранов, тот самый принцип, по которому — кто-то же был рядом, кто-то же видел! (Конечно, на войне нередко случалось так, что свидетелей гибели не было. В данном случае военная судьба оказалась милостивой.) Рядом находились двое: старшина 2-й статьи бывший комсорг плавбатареи Василий Власович Платонов и краснофлотец Виктор Иванович Донец.
Платонова сразу найти не удалось, известно только, что он после войны ходил на военных кораблях. А вот Виктор Иванович Донец так вспоминал о последних днях плавбатареи:
«27 июня мы получили приказ оставить плавбатарею. Горьким было то расставание… Сошли по закопченому, но уцелевшему трапу. Как пожатие руки боевому другу потрогал я его последнюю ступеньку. Знали, что никогда больше не вернемся на наш железный остров…
Прибыли в штольни, где размещался и штаб ОВРа. Нам троим, лейтенанту Даньшину, Платонову и мне, начальник штаба капитан 2-го ранга Морозов приказал остаться при штабе для оформления документов. В том числе и о награждении всего личного состава батареи. Остальным же нашим товарищам было приказано уйти на сухопутный фронт, влиться в общую оборонительную линию.
Через день или два после этого, при переходе из штольни в штольню, был убит разорвавшимся снарядом лейтенант Даньшин.
Сам я с документами и рулоном карт был отправлен на 35-ю батарею, а оттуда переправлен на подводную лодку…
До Большой земли шли трудно. Нас несколько раз бомбили глубинными бомбами. В подлодке было много народу, было трудно дышать. Однако все же вырвались из лап смерти, пришли в Новороссийск.
Меня назначили на катерный тральщик, и до конца войны я пробыл на нем, траля вражеские мины».