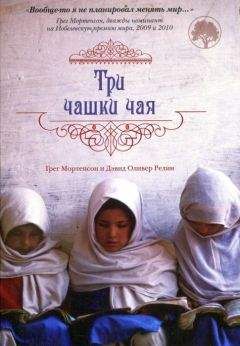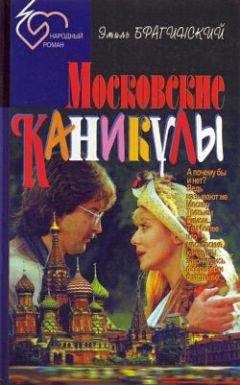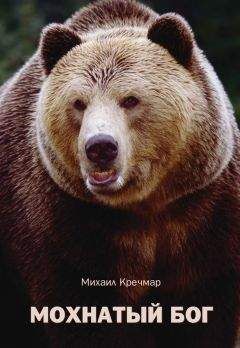Лев Толстой - Том 10. Произведения 1872-1886 гг
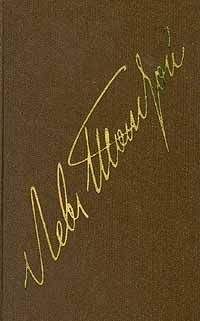
Помощь проекту
Том 10. Произведения 1872-1886 гг читать книгу онлайн
На фрагментах об Азовском походе прекратилась в 1873 году работа над романом о времени Петра. Когда же в 1879 году писатель вернулся к этой эпохе, его волновали другие исторические конфликты: «…самозванцы, разбойники, раскольники» (т. 62, с. 477), то есть столкновение Петра не с боярами, а с народом, история крестьянских движений, народные беды и народное сопротивление.
В этой связи возник интерес Толстого к такому противоречивому явлению Петровской эпохи, как стрелецкое движение. Одно из начал, написанное в стиле народного сказа, Толстой озаглавил «Стрельцы», очевидно, намереваясь развернуть далее историю стрелецкого бунта. В других, избрав местом действия Ясную Поляну в «самое бурное время царствования Петра I» (разгар Северной войны, 1709 г.), он живописует милые его сердцу подробности деревенского быта и намечает столкновение крестьян с представителями царской власти, приехавшими взять не выданных в свое время рекрутов и наказать за укрывательство беглых. «Рассчитывали мужики, что беглых возьмут, да за укрывательство передерут всех, да еще остальных четырех ни из кого, как из них, возьмут». Здесь же автор высказывает нескрываемое предпочтение тому укладу деревенской жизни, который существовал тогда, сто семьдесят лет тому назад, когда у крестьян не было больших домов, но зато они жили большими семьями, когда мужики не ходили в сапогах и картузах, а бабы в ситцах и плисах, но деревня не знала денежных заработков. По стилю и содержанию эти фрагменты очень близки к началам других исторических романов, которые Толстой пытался писать в 1877–1879 годах, и к народным рассказам, созданным уже в 80-е годы.
В этот период, в преддверии перелома в мировоззрении, когда окончательно утверждалось резко критическое отношение Толстого к антинародной государственности вообще, фигура преобразователя России Петра, естественно, перестала его интересовать.
«В 1879 г. Толстого занимает уже не процесс преобразований, но их итог, и не случайно в набросках романа «Сто лет» действие начинается в самые последние годы правления Петра. Петровское время становится не самодовлеющей темой, а точкой отсчета»[35].
Существует большая литература по вопросу о том, почему не написал Толстой свой роман о Петре. Сам Толстой говорил, что эпоха, которую он взялся изображать, слишком была отдалена от его времени и проникновение в души тогдашних людей оказалось ему трудно. Но трудности этого рода, даже если они и существовали в столь большой мере, блестяще преодолены в тех довольно многочисленных набросках, которые были созданы. Великолепно очерчена в них психология хитрого властителя, фаворита царевны Софьи, оставшегося вдруг не у дел, В. В. Голицына; образ мыслей и отношения с двоюродным братом Б. А. Голицына; характеры предводителей стрельцов Федора Шакловитого и Обросима Петрова, образы монахов, бояр, солдата Щепотева и др. Трудности, очевидно не меньшие, испытал Толстой в свое время и при работе над «Войной и миром». Поиски удовлетворяющего начала длились тогда тоже немногим более года — ровно столько, сколько занят был Толстой в 1872–1873 годах новым историческим романом. Но тогда замысел, находившийся в полном соответствии с избранным материалом, преодолел его сопротивление. Теперь, как будто к радости самого автора, жизненный материал «Анны Карениной», романа о современности, неожиданно, но круто и резко оттеснил роман о Петре. Едва начав «Анну Каренину», Толстой иронически отзывается о своих занятиях эпохой Петра («вызывал духов из того времени») и с восторгом о новом произведении («вдруг завязалось так красиво и круто, что вышел роман… очень доволен, горячий и законченный, которым я очень доволен…» — т. 62, с. 16).
Петровское время и, главное, саму личность Петра Толстой стал оценивать критически. По воспоминаниям С. А. Берса, Толстой говорил, что «вся эпоха эта сделалась ему несимпатичной. Он утверждал, что личность и деятельность Петра I не только не заключали в себе ничего великого, а, напротив того, все качества его были дурные»[36]. Здесь и кроется главная причина незавершенности романа о времени Петра. «Человеческие начала, изображению которых писатель придавал такое важное значение как составной части исторического повествования, отходили на задний план, стушевывались. Не желая, по-видимому, писать обличительный исторический роман, Толстой отказывается от осуществления своего замысла, вступившего в столкновение с реальным материалом истории»[37].
Исторические интересы, вновь захватившие писателя после окончания «Анны Карениной», влекли его к повествованию об исконных, неизменных свойствах русского крестьянства. В марте 1877 года С. А. Толстая записала в дневнике знаменательные слова Толстого: «…теперь мне так ясно, что в новом произведении я буду любить мысль русского народа в смысле силы завладевающей. И сила эта у Льва Николаевича представляется в виде постоянного переселения русских на новые места на юге Сибири, на новых землях к юго-востоку России, на реке Белой, в Ташкенте и т. д.»[38].
В эту пору разные периоды русской истории представлялись Толстому материалом для художественного воплощения его мысли. Сначала — первые годы царствования Николая I и русско-турецкая война 1829 года («[Князь Федор Щетинин]»); затем годы, предшествовавшие восстанию декабристов, и само восстание («Декабристы»); потом середина XVIII века («Труждающиеся и обремененные») и, наконец, русская жизнь в течение целого века — с последних лет царствования Петра I до восстания декабристов («Сто лет»). Крестьянский быт в его сопоставлении и столкновении с жизнью «господской», «простая жизнь в столкновении с высшей» — в центре всех отрывков, созданных в это время. Не удивительно, что многие темы, затронутые, например, в вариантах романа «Декабристы», перейдут затем в пьесу «Плоды просвещения», роман «Воскресение», статью «Стыдно» (против телесных наказаний)[39]. В «Труждающихся и обремененных» история жизни предка писателя князя Василия Горчакова, сосланного в Сибирь за подделку векселя, должна была рассказать о безнравственности князя и противопоставить ему слугу Василия, незаконнорожденного крестьянского сына. В началах же романа «Сто лет» («Корней Захаркин и брат его Савелий») видны те безграничная любовь и уважение автора к крестьянскому труду, к нелегким условиям деревенской жизни, которые ранее проявлялись столь прямо лишь в незаконченных рассказах начала 60-х годов из крестьянского быта («Идиллия», «Тихон и Маланья» и др.) и в повествовании о чете Парменовых в «Анне Карениной», а затем, начиная с 80-х годов, стали одним из центральных мотивов всего творчества Толстого, художественного и публицистического.
В начатом теперь романе один из главных персонажей — крестьянин, за брата пошедший в рекруты (как Платон Каратаев в черновиках «Войны и мира» и затем солдат Авдеев в «Хаджи-Мурате»). Здесь же рисуется идеальный женский образ — крестьянки Марфы, жены Корнея (в других вариантах Онисима или Митюхи).
История (последние годы царствования Петра) напоминает о себе лишь крамольными разговорами о Петре как «подмененном царе», слухами про его походы в Пермь, где «из земли огонь полыхает» и много солдат погорело, да рассказами старого крестьянина о разинском бунте и о том, как его пороли за «каляканье» с прохожим о Степане Тимофеиче.
Работая в конце 70-х годов над романом о декабристах, Толстой собирался, как и в 1860 году, выразить свое восхищение нравственной высотой этих людей. Однако основная тенденция задуманного произведения крайне ограничивала возможности действительного отражения эпохи декабрьского восстания. Толстой предполагал воплотить ту мысль, что «нет виноватых», и надеялся смотреть на исторических лиц, никого не осуждая: ни заговорщиков, ни царя, ни владельца крепостных, ни крестьян, вступивших в тяжбу с помещиком, грозившую тому разорением, — «всех понимать и только описывать»[40]. Эта тенденция соответствовало настроению, владевшему тогда Толстым, его упорным поискам решения социальных конфликтов в отвлеченных истинах религии и морали. Но исторический материал, который писатель изучал (как всегда, с тщательным вниманием), разрушал «христианскую» концепцию. Так с особенной настойчивостью добивался Толстой получить хранившуюся в строгой тайне записку Николая I о ритуале казни декабристов. Когда же В. В. Стасов прислал нужный документ, стало ясно, на какое утонченно продуманное зверство способен был тот Николай Павлович, которого Толстой собирался не осуждать.
Не удивительно, что, вернувшись к декабристской теме много лет позднее, в годы первой русской революции, Толстой хотя так и не создал роман о декабристах, но намеревался резко осудить Николая I, его самодержавный деспотизм и противопоставить ему декабристов, «лучших русских людей». Негодование против коронованного злодея Толстой излил тогда в повести «Хаджи-Мурат» и рассказе «За что?».