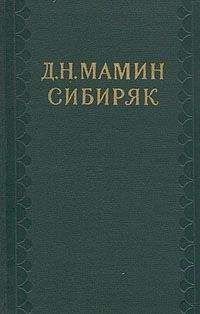Михаил Пришвин - Том 3. Журавлиная родина. Календарь природы
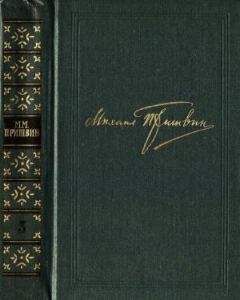
Помощь проекту
Том 3. Журавлиная родина. Календарь природы читать книгу онлайн
Мне сразу же назвали одного старика, первого ягодника, грибника, знатока всего леса в краю. «Петр Ефимыч, – говорили они, – летом и осенью из леса не выходит». Рассказывали жуткую историю его столкновения с сыном из-за снохи, что сын будто бы через это погиб. В крестьянском быту, как в лесу, много бывает такого; что там на деревьях оставляет узлы, то у людей наплывает и держится в памяти. «А может быть, – думалось во время этого рассказа, – и все наше радостное чувство природы такого происхождения: от большой беды в первый раз пошел этот человек бродить по лесу за грибами, за ягодами, да так полюбилось, что теперь и не помнит и не знает, отчего все началось, думает, от радости, а оно от великого начального своего горя».
Вечером я не застал его дома, а утром до солнца он сам явился ко мне с лукошками в руках и валенками, такими старыми, что через их окошко в подошве виднелось избяное окно: такие валенки часто берут с собой в лес старики ноги погреть после холодной росы. Вокруг темно-красного лица старого грибника везде торчали седые пуки, нос ястребиный, глаза, еще вполне живые, смеялись. Мы пошли в мох, я приготовился выслушать тяжелый рассказ наверно же все-таки как-нибудь да наказанного жизнью отца. Я задал моему спутнику вопросы, близкие к этой теме, не потому что очень уж любопытствовал, – напротив: чтобы поскорее отделаться от неизбежного рассказа и потом без помехи греховной отдаться лесным впечатлениям. Утро было мое любимое, когда солнце чуть прикрыто легкими облаками и оттого в природе становится все как бы задумчиво и глубоко. Старик, однако, как мне казалось сначала, очень ловко зачем-то увертывался от моих вопросов и все сводил к любимой своей клюкве: оказывается, зеленая клюква тоже годится, в чаю она лучше лимона и как будто даже помогает против изжоги, а клюква-веснянка, пролежавшая зиму под снегом, совсем сладкая. Чего-чего только не пересказал мне о клюкве старик, потом о бруснике, чернике, гонобобеле! Мало-помалу я стал понимать, что старик или очень умен, или особенно по-умному прост: может быть, он даже и не понимает моего подхода, и, если бы я просто спросил, он просто бы ответил. Но зачем же мне выспрашивать у человека о том, что он уже пережил?
Мы скоро пришли к Малому Туголянскому озеру, я вчера блуждал очень недалеко от него потому, что мне грубо соврали: сворот от Шусты был не в сотне шагов, а почти что в километре. Это озеро несколько меньше Большого и вытянуто, а не кругло, бор на берегу его в два яруса, молодой впереди у самого берега, старый дальше виднелся за просекой. Красивы береговые травы и моховые деревья на фоне воды, я тут много фотографировал, а старик занялся костром и кипятил чайник. Ничего нет прекрасней для меня таких лесных чаепитий. Мы пили и кисленькую ягоду доставали, не трогаясь с места, возле себя. Мне думалось теперь, за этим чаем, что, конечно, и у ягод в прошлом была тоже беда и все-таки вышли же они в свое бессловесное свидетельство жизненного блага. Так с этими разными мыслями, вероятно, я и прикорнул, прислонившись к стволу дерева. Потом я не поверил сначала глазам, мне думалось, я это вижу во сне: в трех шагах от меня, по ту сторону костра, старик вырезал те самые, два раза в разных местах уже встреченные мною, буквы: 0-Н-Ч-К-Н-Д-С. Буквы располагались одна от другой с большим знанием дела, именно так, чтобы обогнуть равномерно весь ствол березы. Сначала старик стоял ко мне задом, и я не мог рассмотреть, с каким лицом он писал. Когда же он завернул, то мне показалось, будто он во всю щеку улыбался, и только уж когда он оказался против меня, я увидел, что это не от улыбки вздулась щека, а только от большого старания: писатель высунул язык, держал его наружи желтыми зубами как бы в помощь своему писанию, и оттого щеки сложились в улыбку.
– Что это значит такое? – спросил я, когда старик, обойдя березу, убрал язык и, думая, что я все еще сплю, поглядел на меня, как на мальчика, которому он приготовил чудесную игрушку.
– Что это значит? – повторил он, закрывая глаза от наслаждения.
С любовью он оглядел кругом всю свою надпись, что-то заметил, стал поправлять, а желтые зубы опять захватили красный язык в помощь писанию.
– Что это значит? – повторил он еще раз у костра и принялся рассказывать.
Было это, конечно же, в некотором царстве, в некотором государстве при царе Горохе. Однажды солдат, постоянный герой старых сказок, шел лесом и увидел на дереве вырезанные буквы: О-Н-Ч-К-Н-Д-С. Долго думал солдат и надпись эту разгадал в таком смысле: О/тсюда Н/едалече Ч/етыре К/очки Н/айдешь Д/енег С/умму. Солдат, разобрав надпись, пошарил поблизости, нашел четыре кочки, а возле них была сумма денег. В деревне как-то пронюхали, что солдат нашел сумму денег. Явились чиновники, деньги взяли, а солдата отдали под суд. Выслушав рассказ солдата, судьи отправились на место, увидели надпись, четыре кочки и ямку, где прежде лежали деньги. Думали-думали судьи, и пошла у них разнодырица: одни стояли, чтобы деньги у солдата взять, другие отдать. Глядел-глядел на них солдат и говорит: «Праведные судьи, прошу я вас, прочитайте надпись с другой стороны». Бились-бились судьи, а надпись все-таки прочесть не могли. «Разрешите, праведные судьи, – попросил солдат, – мне самому прочесть». Судьи разрешили, и солдат прочитал: «С/умму Д/енег Н/ашел К/азенный Ч/еловек Н/адо О/тдать». «Надо отдать!» – в один голос сказали все праведные судьи. И отдали деньги солдату за его счастье и ум.
И все!
– А что это значит? – спросил я. – Вчера видел я старое семенное дерево, и на нем были вырезаны эти же буквы и, видно, лет пятнадцать тому назад или больше.
– Больше! – воскликнул Петр Ефимыч. – Лет тридцать.
И стал рассказывать, как он написал это одному министру во время волчьей облавы: дерево это и тогда уже было старое. А еще надпись была одному охотнику, богатому англичанину, и последняя – видному советскому деятелю, тоже охотнику. Теперь он на дереве пишет мне за то, что я снял его карточку, он знает наверно, что мне понравится: всем очень нравилось.
Долго не мог я опомниться, захлебываясь в только что услышанной чудовищной глупости, но мало-помалу стал улыбаться старику и понимать. Правда, если это считать за глупость, то как же все то во мхах, веками берегущих для нас солнечную энергию: мох весь растет этим умом. Была вода и закрылась зеленью, на этой зелени еще зелень и еще…
…Где-то в итальянских болотах вымерили нарастание торфа со времени перехода там Юлия Цезаря, разложили по столетиям и так поняли сроки поспевания сфагновых мхов. Вероятно, прошли многие тысячелетия у нас, пока суша отвоевала себе на воле местечко и на нем утвердилось дерево. Потом пришел человек и от своего большого горя, развлекаясь, написал что-то на дереве. Потом пришел другой человек, такой одинокий, что счастье себе нашел в этой надписи…
Так мох растет медленно, откладывая солнечную энергию на счастье далеких и неведомых нам поколений.
Комментарии
Список условных сокращений
ИМЛИ – Отдел рукописей Института мировой литературы АН СССР им. А. М. Горького, Москва.
ЛИ – «Литературное наследство».
Собр. соч. 1929–1931 – М. М. Пришвин. Собр. соч. в 6-ти томах. М.-Л., Гослитиздат, 1929–1931.
Собр. соч. 1935–1939 – М. М. Пришвин. Собр. соч. в 4-х томах. М., Гослитиздат, 1935–1939.
Собр. соч. 1956–1957 – М. М. Пришвин. Собр. соч. в 6-ти томах. М., Гослитиздат, 1956–1957.
ЦГАЛИ – Центральный государственный архив литературы и искусства, Москва.
Третий том включает в свой состав произведения 20-30-х годов, которые сам Пришвин относил к охоте и природе.
В середине 20-х годов творчество Пришвина поднимается на новую высоту, к нему приходит признание советского читателя, и сам он в это время осознает свою творческую зрелость. Изменяется круг тем и идей. Природа и охота становятся строительным материалом лирической философии писателя Пришвина, которого Горький, прочитав «Родники Берендея», не без основания, и сейчас это особенно ясно, назвал творцом нового мироощущения: «Вы <…> утверждаете совершенно оправданный, крепко Вами обоснованный геооптимизм, который рано пли поздно человечество должно принять <…>. Ведь если человеку суждено жить в любви и дружбе с самим собой, со своей природой, если ему положено быть „отцом и хозяином своих видений“, а не рабом их, – каков он есть ныне, – к этому счастью он может дойти только Вашей тропой»[11].
Об этой главной тропе своей жизни Пришвин рассказал в автобиографическом очерке «Охота за счастьем» (1926).
Охота за счастьем началась в детстве с путешествия в какую-то не очень ясную страну Азию. Закончилось оно неудачно, и насмешки товарищей по гимназии поставили перед будущим писателем вопрос об отношении сказки (мечты) к жизни – вопрос, который мог бы решиться в дальнейшем как разрыв мифа и бытия. Но всякое царство, разделенное в себе, да погибнет, разъединение – не принесет счастья. И Пришвин в результате длительных и трудных поисков приходит к осознанию единства жизни (бытия) и искусства (мифа). Возникло это во время путешествия и охоты в Олонецкой губернии, где Пришвин записывает «просто виденное». «Теперь я думаю, что каждый художник непременно является и наивным реалистом, и верит, что мир именно такой и есть, каким он его воспринимает» («Охота за счастьем»). Мир предстает как миф (легенда) пли сказка, о таинственном значении которой Пришвин догадывается через себя самого, то есть через свой опыт жизни и творчества.